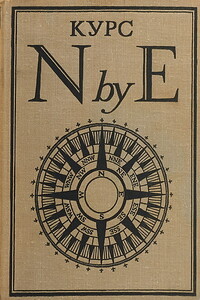Гренландский дневник | страница 122
Саламина вызвалась постирать мой анорак, отнесла его к Маргрете. Стоило ей взять его в руки, как Маргрета горестно проговорила:
— Анорак Кинте. — И обе заплакали.
Я вижу, как перед домом Маргреты стоит Саламина и смотрит вверх, на мое окно. Она стоит долго, скрестив руки, — потому что холодно, — потом заходит на короткое время в дом, опять выходит и снова смотрит сюда. Когда никого нет на улице, показывается Саламина. Неутешная, она идет медленно, скрестив руки, опустив голову; находит любой предлог, чтобы прийти ко мне в дом.
— О, Кинте, Кинте, — плачет она. — Саламина не ест, не спит. Всю ночь она лежит и думает: может быть, Кинте холодно, может быть, ему что-нибудь нужно. Лучше бы было Саламине умереть.
И слезы бегут у нее по щекам. Один раз она взяла мой большой охотничий нож и принесла его мне.
— Убей Саламину, — сказала она, — убей ее, убей ее!
Теперь Саламина работает на меня, но очень мало, потому что я хочу быть один. Я должен оставаться один, чтобы работать. Она заботится о моей одежде и камиках, но шьет у Маргреты. Иногда приходит мыть полы. Ей хочется делать больше, делать всю работу, но я не разрешаю, и она плачет.
Я зашел к Маргрете и застал ее одну. Мы сидели и курили.
— Может быть, Кинте теперь не часто будет заходить к нам? — спросила Маргрета и вдруг стала вытирать глаза. Оказывается, причиной ее слез были слова Рудольфа, сказанные Саламине:
— Плохо, что ты живешь у нас, теперь Кинте, возможно, не часто будет заходить к нам в гости.
Смотреть с нашего затененного острова на освещенную солнцем землю по ту сторону пролива — значит созерцать само лицо неба: так ослепительно, непорочно белы высокие вершины и хребты, так синё само небо. В нашем языке нет слов для такой красоты, потому что мы не знаем ее.
Красота эта трогает — и освобождает душу, но не сердце. (…)
Пора сказать что-нибудь и о моих усердных занятиях своим постоянным делом. Независимо от того, что я хотел жить счастливо и узнать как можно больше о народе, издревле обитающем в этой красивой части света, в Гренландию меня привело мое дело: я пишу картины.
Если бы я был самым ярым эгоцентристом на свете и приехал в Гренландию, на Север, чтобы показать миру, как сильно или как мало северное одиночество влияет на мою непобедимую душу; если бы я думал, что красота заложена в глазах созерцающего и становится вечной, бессмертной через искусство; если бы я принадлежал к какой-либо из школ, считающих, что натура должна быть разложена на кубы или круги или что она вообще не должна участвовать в создании картины; если бы, короче говоря, у меня были какие-нибудь предвзятые мнения об искусстве, то все они исчезли бы перед зимним северным миром.