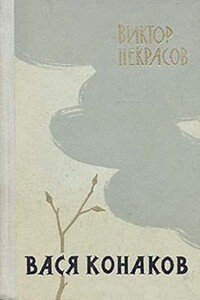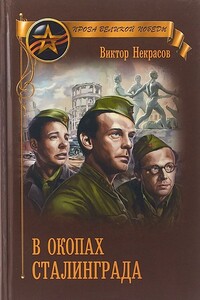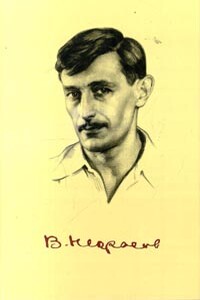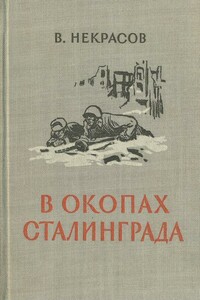Маленькие портреты | страница 5
Часто, когда он уставал после репетиции, мы просто провожали его домой, на Бессарабку, где он жил в одной комнате со своим верным Санчо Пансой, другом детства и одноклассником (даже однопартником) — чудесным маленьким приветливым Феофаном Кондратьевичем Епанчёй. Иногда, когда он болел, мы заходили к нему и усаживались у его железной кровати, над которой на стенке висело громадное «Чужой» (кто-то в шутку вырезал это слово из афиши «Чужого ребёнка»). Иногда, обыкновенно на какой-нибудь праздник — 1 Мая или чей-нибудь день рождения, — он заходил к «нам», точнее, к Нанине Праховой. У Праховых была прекрасная многокомнатная квартира, вся увешанная картинами в золотых тяжёлых рамках, преимущественно Врубеля, с которым дружил Нанинин дед, знаменитый в своё время археолог, искусствовед, педагог и художественный критик Андриан Прахов, открывший миру Кирилловскую церковь в Киеве — уникальное сооружение шестого века.
У Праховых мы «резвились», ставили какие-то шарады (многие специально к ним готовились, чтоб новой «находкой» поразить Ивана Платоновича), слушали рассказы Николая Андриановича, Нанининого отца, о Врубеле, Васнецове, Нестерове, которые часто бывали и даже жили в этом доме, — отец и мать Нанины тоже были художниками. Потом долго пили чай — да, только чай! — и где-то после двенадцати шли провожать Ивана Платоновича через весь город к его уже волнующемуся, стоящему на балконе, уютному Феофану Кондратьевичу.
Но всё это был, так сказать, отдых, внепрограммное общение с Иваном Платоновичем. Настоящее же «общение» — и вот тут-то счастье и горе — происходило на репетициях, в большом зале театральной столовой, из которой выносились столы и стулья.
Первый год мы играли этюды и ставили отрывки из Чехова. На втором курсе мне дьявольски повезло — дали Хлестакова, второй акт «Ревизора». Потом уже Иван Платонович рассказывал мне, почему он отважился дать мне эту роль, мечту моей жизни.
После первого курса (и четвёртого архитектурного) институт послал нас на практику. Мы с приятелем попали в Севастополь. Там мы, не переутомляясь, строили какие-то печки, в основном же купались и загорали на станции «Динамо» у Графской пристани и с утра до вечера мечтали о сытном обеде — год был нелёгкий, тридцать четвёртый. И вот в одном маленьком, беленьком, как и все в Севастополе, домике на Северной стороне (у родителей моего друга, с которым я вместе работал в Киеве на постройке вокзала) мы эту нашу мечту осуществили полностью. Мы съели и выпили всё, что было на столе, а на столе было много кое-чего, и ещё по карманам растыкали. Я надолго, на многие годы запомнил этот лукуллов пир.