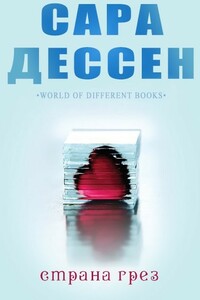Пять имен. Часть 2 | страница 46
На тропе, ведущей от кладовой, ее застали другие Малявки.
— Что ты? — удивленно сказали они.
— Ведь мы же все тебе показали, — сказали они.
— Ты же сама убедилась, — сказали они.
— Куда же ты теперь тащишь эту несчастную луковицу, после того, как мы тебе все объяснили? — хором спросили они. Им не жалко было луковицы, они просто не могли понять.
А Малявка… все слова застряли у нее в горле, из глаз полились слезы, и чем настойчивее встревоженные друзья пытались успокоить ее и просили рассказать, в чем же, наконец, дело, тем горше плакала она, плакала навзрыд, потому что никак, ну совершенно никак не могла объяснить, зачем она тащит эту луковицу к огромному Птенцу, который по всем признакам давным-давно мертв в своем надежном убежище из куста ежевики.
последняя из рода
Мать убьет ее.
Просто убьет.
Сколько раз говорила она: никогда никого не подпускай к своим волосам — с гребнем ли, с ножницами ли, с чем угодно, ничьи руки не должны касаться этого жидкого золота, текучего меда, желтого моря. Ты такой жабенок, говорила мать, волосы — это все, что у тебя есть, можно подумать, что я родила тебя от кого-то другого, ты совсем не в отца, а ведь красивее его на свете никого не было, ну хоть волосы мои, так смотри за ними, смотри как следует, они дорогого стоят.
Жабенок, конечно, жабенок и есть — худая, большеротая, скуластая, с бледными глазами на бледном лице, дурнушка, особенно рядом с матерью, всей красоты и есть только, что волосы. Она слыхала это множество раз, тысячи, сотни тысяч раз, сложно было не запомнить, хотя вообще-то память у нее не слишком хорошая, дырявая, вообще-то, никудышная память.
Кое-что она хорошо помнила — лес и башню, огонь в камине и псов у огня, и мать, расчесывающую ее золотой водопад вечерами. Материнский смех — то ясный и звонкий, как пенье реки у подножия башни, то визгливый и злой, когда она в ярости гнала от себя псов, огромных поджарых псов, исполнявших любое ее желание, трусивших перед ней, как свиньи перед Цирцеей. У них были на то все основания, у этих больших, лохматых кобелей, они все еще рассчитывали когда-нибудь снова стать людьми, но мама смеялась и говорила, что пес — самый благородный облик для вонючих похотливых козлов, и тут она не могла не согласиться с мамой, потому что уж конечно лучше быть псом, знакомым, лохматым веселым псом, чем непонятным вонючим козлом. Но визгливых ноток в мамином смехе боялась, как и псы, убегала в лес, пряталась, спала в кучах осенней листвы. Мать отходила, спохватывалась, вспоминала о ней, посылала псов, но их и посылать не надо было, матери они боялись, а ее любили, ее вообще любило зверье, ни разу никто не укусил и не поцарапал, они прибегали за ней, звали, вели домой, и мать, бранясь, осторожно вычесывала листья и мусор из ее золотых волос, повторяя, что раз больше ничего нет, так хоть это надо беречь, а не валяться неприбранной в сырой листве.