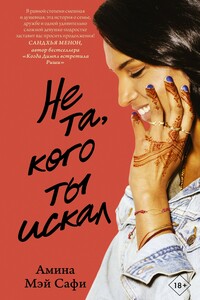Книга ночей | страница 77
Виктор-Фландрен стоял и ждал. Незнакомец был уже в нескольких метрах от него; он поднял голову и застыл на месте. Мужчины посмотрели друг на друга. Их взгляды были суровы и пристальны, как у чужих, свыкшихся с одиночеством, людей, которые встретились впервые, но, в то же время, они светились пронзительной горечью близких, знающих один другого до самых сокровенных глубин души. Глаза незнакомца лихорадочно блестели; Виктор-Фландрен уловил в них страх загнанного животного и, вместе с тем, пугающую покорность, какая туманит расширенные, остановившиеся глаза быков под ударами грозы. И еще он заметил, что у этого человека разные зрачки: правый был узок и черен, левый же являл собой большое золотистое пятно, словно однажды ночью расширился и заблестел так сильно, что больше не смог приноровиться к дневному свету.
Виктор-Фландрен, поглощенный этой странностью, даже не обратил внимания на то, что человек вдруг затрясся и застучал зубами. «Это ты?.. — неуверенно вымолвил он наконец и глухо добавил: — мой сын?..» Но какой из сыновей? Этого он сказать не мог. Стоявший перед ним по-прежнему сверлил его взглядом, одновременно и остро-внимательным и невидящим, и клацал зубами, оскаленными в бессмысленной, блажной улыбке.
Золотая Ночь-Волчья Пасть подошел и несмело протянул к нему руку. «Мой сын…» — повторил он, точно в бреду, коснувшись дрожащей ледяной щеки этого сына, которого не мог даже назвать по имени. Внезапно тот с яростным изумлением вскинул голову. «Не твой сын! — крикнул он, — твои сыновья!» Виктор-Фландрен обхватил и крепко сжал в ладонях лицо своего сына. Он хотел знать, он хотел понять. Но этот двоякий, полудневной-полуночной, полуживой-полумертвый, взгляд лишил его дара речи.
Их лица почти соприкасались. Снег под ногами, отражавший небесное сияние, блестел и слепил глаза; ветер бодро гнал куда-то стадо кудрявых облачков, их тени скользили по белым искрящимся полям и пересекали вдали, у горизонта, почти недвижную, стылую Мезу. Но Виктор-Фландрен не видел ничего, кроме лица, которое сжимал в ладонях, лица, заслонившего все вокруг и еще более опустошенного, чем скудный зимний пейзаж. В этих глазах тоже скользили тени. В левом золотом расширенном зрачке мелькнуло темное пятнышко, и Виктор-Фландрен едва сдержал крик. Перед ним было зеркало, только отражавшее образы не снаружи, а изнутри, из самой глубины души. Они, эти образы, вырывались из темницы обезумевшей памяти и, как вспугнутые птицы, метались в поднебесье взгляда. Там было множество лиц; Виктор-Фландрен разглядел среди них лица своих сыновей и других, незнакомых юношей, все искаженные страхом. Едва возникнув, они тотчас исчезали в пламени взрыва, потом являлись опять. Он заметил даже собственное отражение, впервые за двадцать с лишним лет. И вдруг сквозь все эти лица проглянуло еще одно, то, что он считал прочно забытым. Это был лик его отца Теодора-Фостена, с разрубленным саблей ртом, оскаленным в приступе злобного смеха. Безумный, горький, душераздирающий смех… он не хотел, не в силах был вновь услышать его и, резко разжав руки, почти оттолкнув голову сына, собрался повернуться и бежать. Но не успел — внезапная слабость подкосила его, и он камнем рухнул к ногам сына. Ему хотелось крикнуть: «Нет!» и отогнать от себя этот образ, все эти образы, навсегда позабыть сумасшедшее отцовское лицо, но он только и мог, что твердить умоляющим шепотом: «Прости меня… прости меня… прости!..» — сам не понимая, от кого и за что ждет прощения.