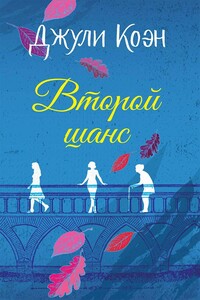Книга ночей | страница 75
Перед тем, как сунуть сложенный рисунок в конверт, она всю ночь хранила его между ног, прижав к лону.
Светало. Трое солдат пробирались по разгромленному перелеску, сквозь путаницу сваленных деревьев и рваных проволочных заграждений, блестящих от росы, как колючий кустарник, в предутреннем розовом мареве. Длинные, нежно-белые перья облаков колыхались у восточной границы небосвода. С первой переливчатой трелью взмыл из кустов жаворонок. Этот стремительный птичий порх словно дал сигнал другим взлетам, только с противоположной стороны, с запада. Сперва там что-то глухо заворчало, потом гул перешел в злобный вой, а тот — в пронзительный свист. Трое солдат подняли головы, удивленно глядя на стремительную стаю необыкновенных птиц с блестящими багровыми клювами. «Ложись! Мины!» — крикнул один из парней, бросаясь в ближайшую промоину. Внезапно птицы хищно спикировали прямо на них. Раздался громовой взрыв, разметавший людей в разные стороны — одного прибил к земле, другого взметнул высоко в розовеющее небо, как будто человек решил последовать радостному призыву жаворонка и тоже встретить новый день в полете.
Обратно, на траву, упал град земли и камней, осколки ружья и рука. Одна-единственная рука, на которой еще сохранился манжет гимнастерки и солдатская бляха на шнурке. Рука плюхнулась прямо перед тем, кто лежал в воронке. Ему даже не нужно было смотреть на выгравированное имя и на прядь черных волос, обвитую вокруг шнурка. Он и так узнал руку своего брата и вмиг позабыл, как зовут его самого и кто же из них двоих так непонятно, так нелепо остался жить в одиночестве. Подобрав руку, идеально схожую с его собственной, он долго, остолбенело разглядывал ее, потом сунул за пазуху. Новый взрыв опять швырнул его наземь, в канаву, где было полно воды. Близилась осень, вода и грязь уже остыли, но не от холода у него вдруг застучали зубы; он всем телом дрожал от нежности, от безумной острой нежности, опустошившей его сердце и память.
Она, эта нежность, туманила ему глаза непроливающимися слезами и побуждала без конца улыбаться странной улыбкой, такою же застывшей, как слезы, кроткой до идиотизма. Так он и сидел на корточках в воде, клацая зубами и улыбаясь в пустоту, не обращая никакого внимания на все, что творится вокруг. Его товарищ, первым спрыгнувший в промоину, так и остался лежать в ней — осколок мины пробил ему висок. Он, вероятно, просидел бы в канаве до самого конца войны или, по крайней мере, до следующего прямого попадания снаряда, если бы на третий день его не нашли и силой не увели с этого места. Поскольку он безостановочно дрожал, стучал зубами и явно лишился рассудка, его отправили в тыл. Ноги, обмороженные в ледяной воде и грязи, распухли так, что на нем едва не лопнули ботинки; пришлось уложить его в лазарет. Рука, которую он все это время упорно хранил под шинелью, странным образом мумифицировалась — кожа стала белой и холодной, как полированный мрамор — или как ожерелье их отца. В ямке ладони застыло красноватое пятнышко, отдаленно похожее на розу.