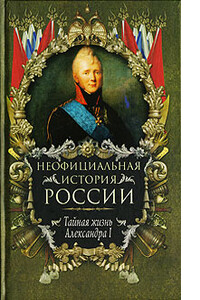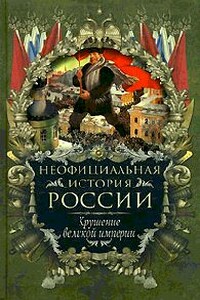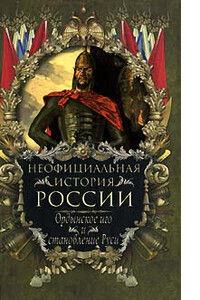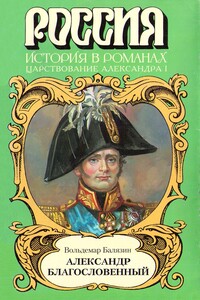Конец XIX века: власть и народ | страница 43
Но еще до похорон явилось неотложное дело: необходимо было принять решение о том, публиковать или не публиковать последний документ, подписанный покойным накануне смерти. Документ этот был настолько важен, принципиален и многозначен, что Лорис-Меликов подошел с ним к Александру III, когда врачи и слуги еще прибирали тело усопшего. Так как Лорис-Меликову было приказано опубликовать «манифест» о преобразовании Государственного совета в завтрашнем номере «Правительственного вестника», то министру внутренних дел не оставалось ничего иного, как сделать весьма рискованный в этическом отношении шаг, объяснимый только исключительностью создавшейся ситуации. Александр III все понял и однозначно ответил: «Я всегда буду уважать волю отца. Пусть завтра „манифест“ будет опубликован».
Однако после этого молодого императора взяли в осаду собравшиеся в Аничковом дворце консерваторы – еще большие сторонники самодержавия, чем сам царь. После многочасовой дискуссии они сумели доказать ему невозможность, крайнюю несвоевременность и большую опасность публикации этого документа. Психологически момент был выбран весьма удачно: душегубы еще гуляли на свободе, для убитого императора еще сколачивали гроб, а его сын уже шел навстречу чаяниям тех, кто поддерживал, – хотя и в тайне, но душой и сердцем все же поддерживал – убийц отца. Поддавшись мольбам, уговорам и резонам Победоносцева и его единомышленников, Александр, встретившись утром 2 марта с Лорис-Меликовым, настоятельно попросил повременить с публикацией «манифеста» до обсуждения этого вопроса на заседании Государственного совета. Так, в день смерти Александра II, которого потомки по праву назвали «Царем-освободителем», дело всей его жизни было приостановлено его сыном.
2 марта 1881 года в Доме предварительного заключения
Игнатий Гриневицкий, бросивший второй заряд в императора, оказался так близко от него, что смертельно ранил и себя. Он умер в Третьем отделении в окружении врачей, пытавшихся спасти его, через 7 часов после того, как скончался Александр. Труп Гриневицкого предъявляли всем арестованным, кто мог бы опознать его. Предъявили и Андрею Желябову, арестованному за 2 дня до убийства царя, но тот сначала отказался удостоверять личность покойного. Однако потом понял, что должен восстановить «справедливость»: невозможно, чтобы уцелевший при первом взрыве Рысаков (назвавший себя при аресте Глазовым) или погибший Гриневицкий фигурировали на предстоящем процессе, а он, Андрей Желябов, творец всего произошедшего, оставался бы в безвестности. К тому же он не мыслил никого, кто бы мог так же хорошо, как он, выступать на процессе, пропагандируя идеи «Народной воли», и так решительно защищать народ. А так как мертвый Гриневицкий суду уже не подлежал, то мог ли он уступить всероссийскую трибуну какому-то недотепе Рысакову, не сумевшему даже убить императора?