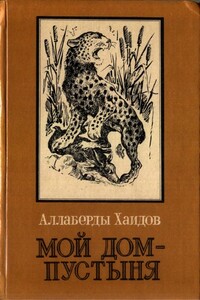Журавлиное небо | страница 91
И дальше уже нетрудно будет представить продолжение. Представить справные сани, ну те, и фасон и размер которых человек сознательно и с расчетом приспосабливал к своим возможностям и к своей натуре, чтобы по случаю можно было и добрую вязанку дров по первой пороше привезти из лесу, чтобы и малец мог сладить с ними на ледяной горке, чтобы и дедуню немощного можно было притарабанить по морозцу домой из соседской баньки. Вот и опрокинут набок те самые сани, и взгромоздят на них вепря, и поволокут по реденьким лоскутам раннего снега или по бугристой осенней земле куда-нибудь за пуню в ложок, в затишье ольшаника, и сорока тотчас усмотрит какой-то непорядок в своей округе — застрекочет, зашастает по ольшанику да по заборам.
Вот и все. Вот что, кроме всего прочего, должно было ощущаться, воскресать в том рассказе.
А сам замысел мыслился так: где-то, ну, скажем, в каком-то городе, в большом мире, среди людей живет сын, возможно, женатый, а может, и холостой. В детстве, в деревенском своем детстве, это был очень впечатлительный мальчик — худенький, бледный, широкоротый, порывистый и одновременно застенчивый, упрямый и в то же время не умеющий сдерживать слезы. Можно сказать, что душа его вбирала в себя многое, и можно сказать, что она была наделена способностью желать добра и понимать добро, понимать людей, и это было бы не то хищное, самоуверенное понимание, сиюминутный инстинкт выгоды, а другое, печальное и чуточку безысходное, без выгоды для себя: оно и скверного человека заставляло жалеть так же, как хорошего, хотя бы потому, что он скверный… Но это потом, в отступлениях. Начинать же нужно было бы с той ранней юности, когда человек весь, как весенняя почка: вот только что взорвала она тугую свою оболочку — о сладостный миг освобождения, опасная ласка солнца в предчувствии далеких дождей!.. Придет и гроза, и судорожно разорвет небо молния — не раз и не два, — и снова сверкнет солнце, и теплый дым опадет над орешиной, и не скажет молния, для какой завязи губителен был ее холодный зеленый луч… Но вот — молодость, и герой наш «и жить торопится, и чувствовать спешит». «Прощайте же, родные пенаты и родная хата, — думает он, — и ты, мать, не гляди так тревожно вслед». И голову еще не жарко припекает утреннее солнце, и в кринице, что укромно живет в тени родных лип, еще так много чистой воды.
Рассказать нужно было о юноше, который безрассудно и отважно ринулся в жизнь и не обкрадывал себя, искренне беря у людей и так же искренне отдавая им свое. Да и что тут было таить или жалеть! Ему казалось, что не может быть на свете человека, который, узнав, не полюбил бы его — ну хотя бы за эту его жажду сочувствия и ласки, не для себя только — для всех!.. Лишь иногда в шумном разгаре его любви к людям и согласия с ними вдруг становился задумчивым его взгляд, и казалось тогда, что тишина, высокая и сторожкая, вырастала за ним, и ощущение было такое, будто кто-то стоит за его спиной. И грянул срок, и разрушилась за спиной тишина, и беда постучалась в дверь, и познал он то, что хоть однажды в жизни познает каждый человек, — и разочарование, и отчаяние, и пугливо-виноватые взгляды друзей, и непрочную ласку женского сердца.