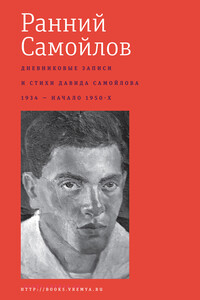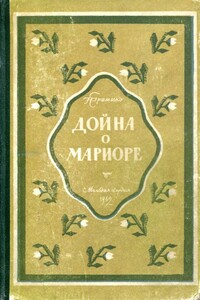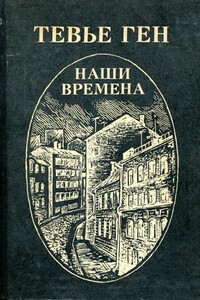Журавлиное небо | страница 211
(Перевод Б. Иринина)
«В чаще темной и глубокой плещет, пенится вино» — это поэтический образ озера. Это сама природа, эстетически осмысленная, это хаос, подчиненный и преобразованный приданной ему формой. Вот почему «светлый и холодный» хмель природы трансформируется в душе человека в «струн веселых перебор».
Свет природы имеет свое измерение, перспективу и объем, свой верх и низ. Он подвижен, как мысль, и одухотворен, как чувство.
(Перевод Б. Иринина)
Человек стремится к слиянию с природой, но не к растворению в ней. Последнее невозможно, ведь человек прежде всего личность, он наделен определенной духовной автономией.
(Перевод А. Прокофьева)
«С природой слившийся душой» человек не перестает слышать и видеть, не перестает анализировать свои ощущения. Но это не мешает ему испытывать удовлетворенность и радость от «слияния». Напротив, именно элемент осмысления и анализа придает его связи с природой высокий эстетический и духовный смысл. Так приобщается к природе человек, ощущая себя ее душой, ее мыслью.
Мы теперь видим, что ничего загадочного, экзотического, тем более декадентского нет в мифологических стихах Богдановича, которые вовсе не были для него самоцелью. Он был захвачен не просто поэзией язычества, а высказал на его основе и с его помощью весьма современные для того времени злободневные и глубокие мысли. Отнюдь не язычество было его идеалом, а гармонически развитая человеческая личность, наделенная способностью чутко воспринимать красоту в природе и мире.
МАДОННЫ
В анкете, посланной в свое время Адаму Егоровичу Комиссией Института белорусской культуры по литературному наследию Богдановича, был и такой пункт: «Отношение к девушкам». Отец написал:
«Я никогда не видел его в женском обществе, за исключением его двоюродных сестер. Думаю, что он никогда его и не искал. Он был слишком серьезным и чистым для фривольных связей и слишком честным, чтобы вводить кого-либо в заблуждение относительно серьезности своих намерений. А о женитьбе он, пожалуй, не думал, в связи со своей болезнью».