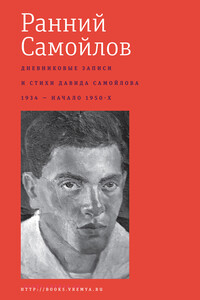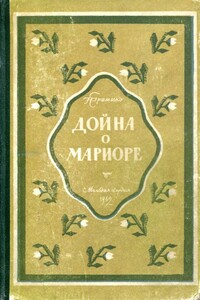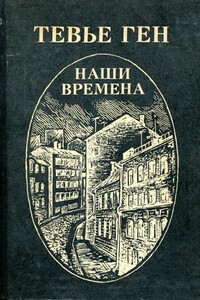Журавлиное небо | страница 209
(Перевод А. Прокофьева)
«Понуро», «дико», «пустынно», «одиноко» — вот те слова, которыми поэт характеризует созданное им царство и его обитателей. Здесь веет унылостью и безнадежностью, и все эти водяные и лешие — не боги, даже не божки, а жертвы, изнемогающие под тяжестью того, что должны нести в себе и воплощать. Мысли, мысли, познания самих себя и через себя природы — вот чего им не хватает! И печаль их и уныние — все от того же. Это как бы мучительное предчувствие мысли, неопределенное желание ее и невозможность подняться до нее. И потому их судьба — какое-то страшное, трагическое бездействие, животное, в подлинном значении этого слова, существование. (Помните картину Врубеля «Пан»? Сумрак, кусты, а в кустах — обросший, седой Пан, чутко и бессмысленно к чему-то прислушивающийся. Сбоку таинственно и дико прорезается месяц. И такая тоска и печаль в глазах Пана, в которых вот-вот, кажется, отразится что-то осмысленное.)
Поэтизация встречи человека с природой, слияния с нею у Богдановича нет. А если есть у него поэтизация, то это поэтизация человека, которого хотят и не могут «провидеть» водяной или леший.
Значит, человек все же есть? Да, есть, но он у Богдановича не «персонаж». Человека, по сути, нет, есть только мысль о нем и, как ни парадоксально, это «мысль» самих «божков». Но зато как художественно впечатляет эта мысль!
Таким образом, ни поэтизации, ни слияния с природой нету, есть страх перед иррациональным, совсем не декадентский страх «рационалиста» Богдановича.
Своими мифологическими стихами он решает как бы двойную задачу: добирается фантазией до мрачного, хотя по-своему и поэтичного мира древнего язычества, и по-философски ставит и решает вопрос о «законности» и «благодатности» разума. Того разума, от которого отворачивались и над которым издевались декаденты (и разве они одни!). И если уж защищать Богдановича от декадентов, то защищать серьезно, на уровне его мыслей. Иначе нам придется «обелять» Богдановича, как это делает, к примеру, один из исследователей его творчества, — мол, леший подан у поэта на реалистическом фоне осеннего пейзажа и, мол, «поэт достигает полного слияния мифологического образа с основным реалистическим фоном». Ну еще бы! Ведь леший — это же сама природа!