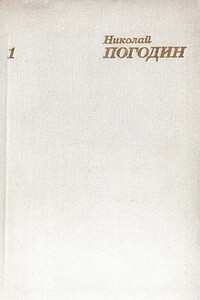Журавлиное небо | страница 114
Пойдем пешком.
Но, послушай, ты знаешь, той нашей школы теперь уже нет. Помнишь хату тетки Авгиньи — старую, без палисадника под окнами: окна прямо на улицу, и помнишь ли широкий, весь в мураве, двор и полураспахнутый дровяной сарай? Хату тетка как-то продала, сама переехала жить к замужней дочери в соседнюю деревню. Ну что ж! Та хата живет в нашей памяти: вот мы пришли к этой хате и сели на крыльце…
Так звони, звони — я слышу тебя и сегодня, школьный звонок, сделанный из шершавой снарядной головки!
В ту осень, когда мы впервые сели за парту, еще шла война. Где-то далеко были наши отцы: чей воевал, слал домой письма, а чей молчал — и тогда все куда-то писали письма наши матери. И вот из той фронтовой дали, откуда-то вдруг приходит наконец ответ — узенький листик с печатными буквами, а в нем, зачеркнутые черной чертой, какие-то слова, а то, что оставалось, читалось везде одинаково, читалось так: пропал без вести.
Над таким листом плакала в ту осень моя мама.
Она часто плакала в тот год: и утром, когда отправляла меня в школу, повесив полотняную торбочку с книжками на мое плечо и сунув в руки новенькую трехрублевку на Красный Крест, и в другое утро, когда не пускала меня в школу и я сидел весь день на печи, потому что не было чего обуть на ноги.
Над таким же письмом плакала в ту осень и твоя мама.
Но твой отец не погиб, он вернулся: помнишь, ты стыдился сказать мне, что он был в плену. Ты не мог простить ему это, и, зачем таить, не мог простить и я.
Давай же теперь, дружище, поклонимся неизвестной могиле моего отца, и камень тот, брошенный на многострадальную дорогу отца твоего, давай поднимем тоже. Ни мой, ни твой отец не виноваты перед временем и перед войной…
Много чего не понимали мы с тобою в ту пору…
Что ж, звони, звони — я слышу тебя и сегодня, школьный звонок, сделанный из шершавой снарядной головки!
В хате тетки Авгиньи, в этой первой нашей с тобою школе, окончили мы четыре класса и прошли, как говорится, пятый коридор. Коридора на самом деле не было; была обычная кухня с широкой печью, со столом, с лавкою для чугунов и для ведра воды. Коридоры были потом, в других школах — семилетках и десятилетках, но уже не в нашей деревне.
Утром, едва начинало рассветать, осенью и зимою будили нас матери: в камельке горел огонь, и закипал на треножке чугунок с бульбой…
До сих пор я так подробно помню дороги, по которым ходили мы в школу.
Как назвать нам те годы? Нелегкие были они, бедственные, но они не повторятся: там, в забытой богом деревеньке, пробуждалось наше сознание. Помнишь, как зачитывались мы Тургеневым, Чернышевским, помнишь, какими героями были для нас Рахметов, Базаров? Не знаю, каким словом можно назвать это постоянное напряжение души, этот порыв к самоотверженности, к радости и даже к печали — и все это было, и я думаю теперь: как мы были счастливы, как много было у нас впереди, какая большая, увлекательная жизнь ждала нас впереди!