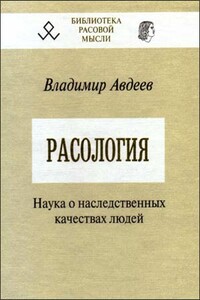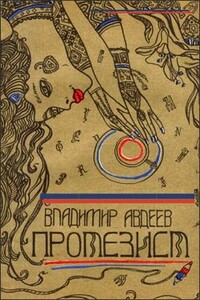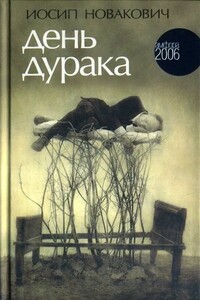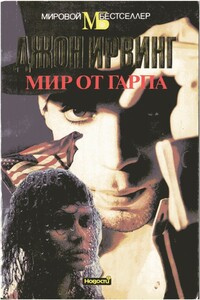Страсти по Габриэлю | страница 48
Я имею самого себя, я обладаю собой. Что может быть интересней? В мое сознание внедрились более сложные манипуляции, призванные производить впечатление более простых, вот и вся моя реальность. К пониманию жизни можно прийти двумя способами: до нее можно дорасти и можно до нее низлететь. Первый путь наигранней и привычней, но второй неизмеримо интересней, ибо сопряжен со всеми преимуществами смотрящего сверху вниз.
За одну субтильную иронию смотрящего сверху я согласен претерпеть какие угодно лишения.
На ходу я ранил воздух, а он лишь свирепо стонал в окончаниях моих пенящихся одежд. Небо пробовало что-то предпринять с облаками, а мне хотелось ударить снизу по подносу, на котором прохожие подносили мне лучистую грошовую благожелательность так, чтобы гроши устроили здесь небольшой медный гербовый фонтан.
С наступлением дня ночной совиный холод исчез в складках вырождающихся тканей, но тепло еще не расправило затекшие члены и не заняло вакантное место. Именно во время этого междувластия я и подошел к обиталищу Евгения и Сержа.
Дверной глазок будто из хитрой бутыли наполнился глазом, неслышно чавкающим ресницами. Он был таким безучастно карим, что я принял его за кнопку электрического звонка и едва не нажал. Мой выход напоминал вращательное движение, которым нарушают тепло-несущее одиночество термоса, дабы извлечь из него улыбку. Владелица карих глаз неподдельно выдержанно поведала мне, что Евгений и Серж съехали поздно ночью в крайней поспешности, и больше ей ничего не известно. Она говорила в такт своему бестревожному кровообращению, а изумрудные серьги в потускневшей оправе, казалось, должны были придать ее лицу вид удовлетворенного лукавства.
Я уверенно брел по селению X, нещадно перлюстрируя свежевыкрашенное воспоминание о том, как на меня вдруг повеяло из окаянных глубин пансиона шикарным запахом потревоженной пыли, а неугомонный маятник резал на ровные ломти что-то домашнее.
Невзирая на одиночество, мне захотелось побыть одному. Я бродил, как может бродить лишь уволенный в запас парадный часовой, и диву давался, как мало событий со мной происходит и как велика меж тем сила моей изолированной рефлексии, теребящей в гневном безрассудстве многие глубины философской надмирности. Сейчас меня более всего занимал круг проблем, которые я условно окрестил технологией веры и технологией судьбы. Я был приятно шокирован, едва мне достались эти два филологических мутанта. Народившись, они моментально окоченели в моем мозгу до пассивного безвременья девизов.