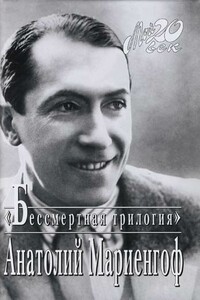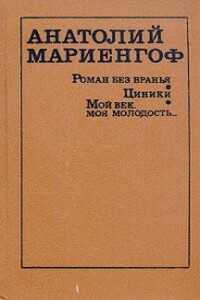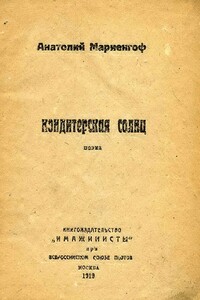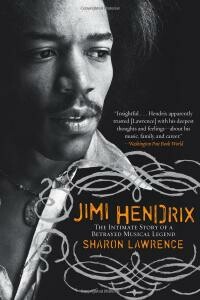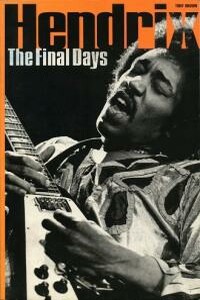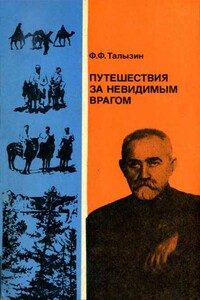Это вам, потомки! | страница 24
Спрашиваю:
— Почему у твоего трубача нет второй руки?
— Для чего же она? Ей делать нечего.
Это и есть секрет прекрасного художественного реализма.
Алексей Толстой тогда жил в Царском Селе. Там он и справлял свое пятидесятилетие. Водку в его доме пили стопками. Рюмки презирали. Среди ужина я нагнулся к Никритиной. Всю жизнь она была моим цензором, к счастью, либеральным.
— Нюшка, я сочинил эпиграмму. Послушай:
Она улыбнулась:
— Ничего. С перчиком.
— Как ты думаешь, можно ее сейчас прочесть вслух?
— Да ты что, Длинный, совсем опупел? — И добавила довольно строго: — Пора уж немного остепениться.
Так погибла и эта моя эпиграмма.
В город к матери приехала дочка, годиков так двенадцати. Очень ей понравилось: фонари, автобусы, витрины, кино… Через две недели мать отправила девочку обратно — «хату беречь».
Та вернулась и через несколько дней сожгла всю деревню — чтобы нечего было беречь и жить в городе.
В 1918 году золотоливрейный старый швейцар в изразцовой уборной Большого театра, презрительно кивая на нового зрителя, говорил мне:
— Да какие ж это люди — мочатся и рук не моют!
Доходы швейцара тогда очень упали.
Ночь. Я прохожу по жесткому вагону. В три яруса, используя и полки для чемоданов, спят люди — старые и молодые, мужчины и женщины. Почесываются, похрапывают, посапывают. Меня поражает, что почти все спят с полуоткрытыми ртами. По напряженным складкам на лбах и между бровей я вижу, что во сне они о чем-то думают. Но не головами, а позвоночниками. Поэтому лица у них неприятные, полуидиотские. Некоторые пускают слюну и во сне улыбаются. Тоже как полуидиоты. И тут я вспоминаю прекрасные лица покойников, с опущенными веками цвета церковного воска. Лица, лишенные всякой мысли. Чистая форма. Как она бывает благородна! Как хороша! Эта чистая форма, не потревоженная мыслями головного и спинного мозга.
У Таировых за столом затеяли разговор о демократии. В нашем понимании и в американском.
Насмешливо почесав свои рыжие бакенбарды, Карл Радек сказал:
— Конечно, и у нас могут быть две партии… одна у власти, другая в тюрьме.
И в столовой стало тихо. Никому больше не захотелось разговаривать о демократии.
Радек мне понравился.
Куртизанка сказала Жан-Жаку Руссо, принявшемуся изучать ее тело:
— Оставь женщин и займись математикой.
А Рембо овладел несколькими туземными диалектами самым приятным способом — он завел нечто вроде гарема из женщин, принадлежащих различным племенам.