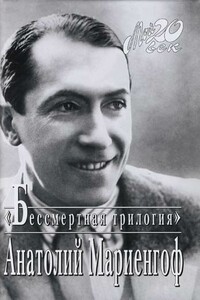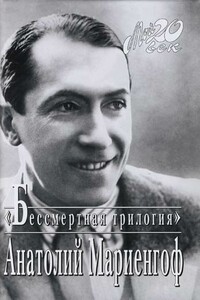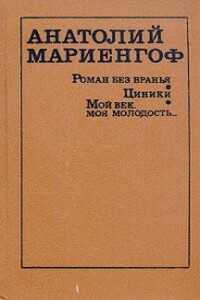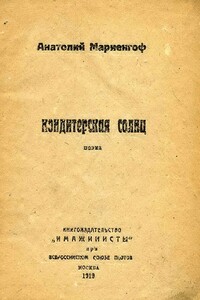Роман без вранья | страница 69
Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно, боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного со всеми своими скандалами:
В Самарканд не поеду-у я
Т— там живет — да любовь моя.
Толя милый, приветы. Приветы.
Твой Сергун».
«Дура моя ягодка.
Дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности, и ваша сволочность — ни гу-гу.
Итак. начинаю.
Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце… О, нет, вы не знаете Европы.
Во— первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью, так и чешется, но к горю моему один ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко. Да, прав он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев.
Да, мой друг рыжий, да. Я писал Сашке, писал Златому — и вы «ни тебе, ни матери».
Теперь я понял, понял все я —
Ах, уж не мальчик я давно, —
Среди
исканий, без покоя
Любить поэту не дано.
Это сказал В. Ш., по-английски он зовется В. Шекспир. О, я узнал теперь, что вы за канальи, и в следующий раз вам, как в месть, напишу обязательно по-английски — чтобы вы ничего не поняли.
Ну так вот — единственно из-за того, что вы мне противны, за то, что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные поэмы, на англ. и франц. яз. и выпускаю их в Парнике и Лондоне.
В сентябре все это вам пришлю, как только выйдут книги. Адрес мой (для того, чтобы ты не писал).
Сергей Есенин».
И Сахарову из Дюссельдорфа:
Родные мои. Хорошие…
Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут, и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать, самое высшее — мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно.
Если рынок книжной Европы, а критик — Львов-Рогачевский, то глупо же писать стихи им в угоду и но их вкусу.
Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички сидят, где им позволено. Ну куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к черту и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину.