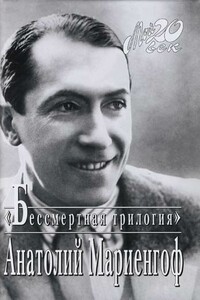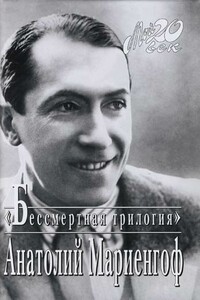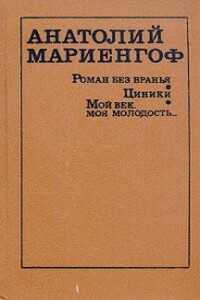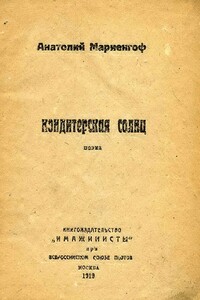Роман без вранья | страница 62
— Веди!
И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям. Изадоры Дункан не было.
— Черт дери… гхе-гхе… нет… ушла… черт дери.
— Здесь, Жорж, здесь.
И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.
— Жорж, милый, здесь, здесь. Я говорю:
— Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.
— И понюхаю. А ты пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.
Пришлось помалкивать.
Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.
Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.
Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.
46
«Почем— Соль» влюбился. Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка сшил полдюжины рубашек.
Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что «Почем-Соль» любит хорошие вещи.
А та, с которой я его познакомил, именно хорошая Вещь. Ею приятно обставить квартиру.
У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Иэ-за вагона он обзавелся Левой в «инженерской» фуражке.
Очень страшно, если он возьмет Вещь в жены, чтобы украсить свое купе. Я ему от сердца говорю:
— Уж лучше я тебе подарю ковер!
А он сердится.
По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни, говорит:
— Пропадает парень… пла-а-а-кать хочется!
47
Вернулась Никритина.
Холодные осенние вечера. Луна похожа на желток крутого яйца.
С одиннадцати часов вечера я сижу на скамеечке Тверского бульвара, против Камерного, и жду. В театр мне войти нельзя. Я — друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было. Теперь, при встрече с Мейерхольдом, еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые.
Иногда репетиции затягивались до часу, до двух, до трех ночи.
Когда возвращаюсь домой, Есенин и «Почем-Соль» надо мной издеваются. Обещают подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом (в Камерном был спектакль «Принцесса Брамбилла»). А Никритину — обезьянкой, мартышкой, мартыном, мартышоном.
Есенин придумывает частушки.
Я считаю Никритину замечательной, а он поет: