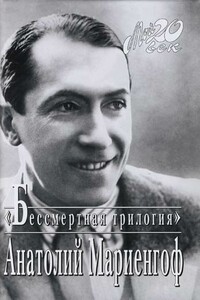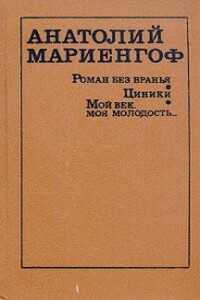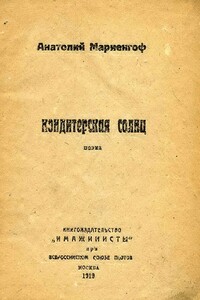Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги | страница 29
— Чему это ты, папа?
— Да так. Вспомнил один курьез. Видишь ли, в Риме в преддверии собора Святого Петра стоит конная статуя императора Константина.
— Что же тут смешного?
— Этот Константин приказал повесить своего тестя, удавить своего шурина, зарезать своего племянника, отрубить голову своему старшему сыну и запарить до смерти в бане свою жену… Вот за это он и попал в герои! Даже в святые. И не он один.
Я вернулся в комнату, почувствовав, что отцу хочется поговорить.
Он закурил.
— Так вот, мой друг, — всякий век чрезвычайно высокого о себе мнения. Так и слышу, как говорили в восемнадцатом: «В наш век! В наше просвещенное время!» Потом в девятнадцатом: «Это вам, сударь, не восемнадцатый век!» Или: «Слава Богу, господа, мы живем в девятнадцатом веке!» И так далее, и так далее. А нынче? Бог ты мой, до чего ж расчванились! Только и трубят в уши: «В наш двадцатый век!», «В нашем двадцатом веке!». Ну и простофили!.. Дай-ка мне, пожалуйста, лист бумаги.
Я дал.
— И перо!
Я обмакнул в чернила и подал.
— Спасибо.
— Ты что, папа, завещание, что ли, писать собираешься?
Он молча положил лист на колено, согнутое под одеялом, и размашисто крупными буквами вывел:
«Я — Борис Мариенгоф — жил в XX веке. И никогда не воображал, что мой век цивилизованный. Чепуха! Еще самый дикий-предикий». И протянул мне записку, делово проставив день, число, месяц, год, город, улицу и номер дома.
— У меня, Толя, к тебе просьба: вложи это в пустую бутылку от шампанского, заткни ее хорошенько пробкой, запечатай сургучом, а потом брось в Суру.
— Слушаюсь, папа! — ответил я с улыбкой. — В воскресенье все будет сделано.
— Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и выловит.
Он погасил папиросу и снял пенсне:
— Все-таки приятно. Прочтут и небось скажут: «У этого мужчины на плечах голова была, а не арбуз. Как у многих его современников». А?
— Пожалуй.
— Ну, спокойной ночи, мой друг.
— Спокойной ночи, папа.
Свое обещание я сдержал и почему-то до сих пор верю, что отцовская бутылка еще плавает по Каспийскому морю, в которое, как известно, впадает Волга, а в Волгу — Сура.
История историей, война войной, Пенза Пензой.
Третий месяц мы ходим в театр, в кинематограф и гуляем по левой стороне Московской улицы всегда втроем: я, Тонечка Орлова и ее лучшая подруга Мура Тропимова.
О Тонечке я уже написал венок сонетов. Я сравнивал ее с июльским пшеничным колосом.
А ее лучшая подруга — коротенькая, широконькая, толстоносенькая и пучеглазая.
— Толя, подождем Муру, — лукаво говорит Тоня.