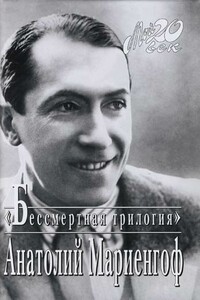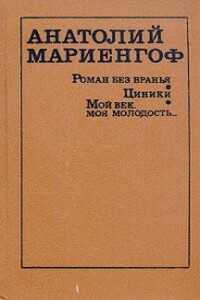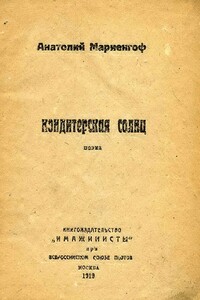Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги | страница 27
И улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой:
— «Осанна и цветы!..» Несчастная женщина. Боже мой, какая жалкая и несчастная.
Лето 1914 года.
В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шхуне по Балтийскому морю. Иностранные порты. Стокгольм, Мальме, Копенгаген… Вот она, Дания, — родина Гамлета.
Я стою под кливерами на вздыбленном носу шхуны. Нордвест воет что-то свое, а я — слова Датского принца:
Стихи подкармливают мальчишеское зазнайство. Несколько позже я его назову честолюбием.
Мы в Копенгагене.
— Отдать концы! — говорит в рупор с капитанского мостика старший офицер.
Опять распущены паруса, опять море. Но оно не серебристое, не пепельное и не бледно-голубое, как русские глаза. А черт его знает какого цвета, вернее — цветов. Какая-то пенящаяся бурда.
Ночная вахта. Юнги называют ее «собакой». Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаясь прочесть там будущее своей жизни: «Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?»
А через несколько дней в открытом море, неподалеку от Ганге, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной Гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией.
Война! Какая мерзость!
А мы, дурачье, с восторгом орем:
— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. Ура-а-а!..
Орем до изнеможения, до хрипоты. На загорелых лбах даже вздуваются синие жилы.
Приказ командования: идти в порт Лапвик; затопить — шхуну; возвращаться на родину по железной дороге.
— Чтобы немцы не торпедировали, — поясняет старший офицер.
— Нас?
— Ну, разумеется.
«Торпедировали!..» О, это звучит шикарно.
Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными расфуфыренными дамами в шляпах набекрень или сползших на затылки, как у подвыпивших мастеровых. Возвращались с дамами в слишком дорогих платьях, но с нечесаными волосами и губной помадой, размазанной по сальным ненапудренным подбородкам. Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазки, — дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов.
Одна красивая стерва с болтающимися в ушах жирными бриллиантами едва не перегрызла мне большой палец на правой руке, когда я отворил дверь в купе. К счастью, я уже знал назубок самый большой матросский «загиб» и со смаком пустил его в дело.
Ехали день, ночь, день, ночь.
По горячим сверкающим рельсам навстречу гремели воинские эшелоны.