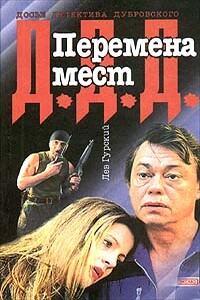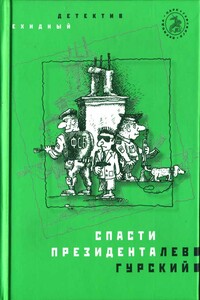Роман Арбитман: биография второго президента России | страница 36
Новоарасская районная библиотека хранит шестнадцатиполосный спецвыпуск местной газеты «Наше время» за март 2000 года, под названием «Наш дорогой Роман Ильич». Факсимильно воспроизведено несколько страниц школьных дневников тогдашних подопечных Арбитмана (сплошь «четверки» и «пятерки» по его предметам). В том же номере ученики президента России — Марина Буаленко, Александр Зевякин, Александр Мостович, Павел Родофиникин, Серык Сарбасов, Ирина Бетанкурова, Сергей Боголюбский и многие другие — делятся воспоминаниями о своем педагоге. За строками газетной публикации встает образ едва ли не идеального учителя: строгого, но справедливого; требовательного, но всегда готового помочь; образованного, но не стремящегося перегрузить ученика информацией или раздавить его своим моральным авторитетом.
Жанр панегирика, однако, коварен: искренний комплимент часто пытается притвориться историческим фактом, подменив реальность. Был ли Арбитман таким уж безупречным школьным преподавателем? По мнению Р. Медведева, был. (Для доказательства тезиса историк на протяжении трех книжных страниц беспокоит прах Песталоцци, Ушинского, Макаренко и Сухомлинского, прилагая к Роману Ильичу разнообразные цитаты из столпов мировой и отечественной педагогики). Главный редактор московской газеты «День литературы» В. Бондаренко, напротив, утверждает, что не был.
В отличие от Медведева Бондаренко не тревожит почтенные педагогические тени, а весьма конкретен. В феврале 2000 года он не поленился съездить в Буряш и лично проэкзаменовал найденных там восьмерых учеников Арбитмана, работавших в местной сельскохозяйственной артели. «Прошло не более пятнадцати лет после выпуска, а они уже путают глаголы первого и второго спряжения! — уличает Бондаренко. — Не могут отличить назывные предложения от неполных! Слово «интеллигенция» пишут с одним «л», слово «лиро-эпический» слитно, а не через дефис! Они еще худо-бедно помнят сюжеты произведений Пушкина, Гоголя или Сенковского, которого, кстати, вообще нет в школьной программе, но начинают позорнейшим образом «плавать», едва речь заходит о Горьком, Фадееве, Полевом или Рубцове! Про «Поднятую целину» и «Русский лес» некоторые, сдается мне, и не слыхивали. Фамилии Передреев и Тряпкин вызывают у них малопонятные ухмылки. Сразу видно, что советский период нашей литературы Арбитманом преподавался через пень-колоду, если не сказать грубее».
Редактор «Дня литературы», что называется, ломится в открытую дверь. Сам Роман Ильич никогда не считал себя образцовым школьным преподавателем и не боялся в том повиниться. «На филолога при желании можно выучиться, а учителем надо родиться, — подчеркивал он в интервью газете «Первое сентября» (2003 год). — Дети меня, в основном, слушались, и программу мы осваивали без видимых потерь. Но и без блеска. За все три года у меня не возникло ощущения, что педагогика — по-настоящему мое призвание. Точно так же, как на последнем курсе филфака я не почувствовал, что обязан посвятить жизнь академической науке. К сожалению, мы можем догадаться, в чем же именно наше предназначение, только методом проб и ошибок, отсекая варианты. Чужой опыт тут бессилен, шишки приходится набивать самому…»