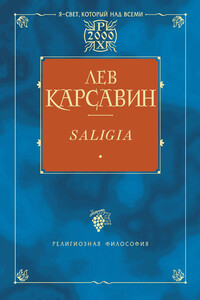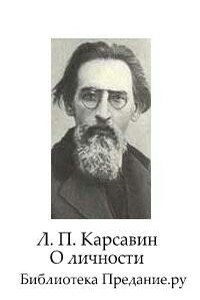Монашество в средние века | страница 31
Боббио вовсе не самый значительный монастырь эпохи. В нём было только 650 манз. В «Святом Жермене на полях» (St. Germain des Prés) их было в первой четверти IX века около 3000, главным образом в руках колонов. В Прюме в эпоху Карла Великого от трёх главных центров (Prüm, St. Goar и Münstereifel) зависело 119 «курий» (curie, fusci), y многих из которых были ещё свои «господские участки» (manci indominicati). Под наблюдением аббата приказчики (majores, villici) руководили сложным хозяйством монастыря. Число манз доходило до 1753, но сюда следует ещё присоединить 80 бенефициев и 340 «господских земель». Всё это давало в год около 6000 модиев пшеницы (не считая остающегося на манзах), 4000 мер вина, 1500 солидов деньгами, более 2000 «подарков» и питало 1800 свиней. Число рабочих доходило до 7000. Неудивительно, что St. Gallen, располагавший 4000 гуф, считался по сравнению с другими «pauperior visu et angustior». В самом маленьком монастыре было не менее 200–300 гуф, в среднем – 1000–2000, в большом – от 3000–8000 гуф.
Такие хозяйства требовали и немалых забот. Нужно было содействовать их организации, помогая тому, что слагалось само собой; приводить в соответствие с потребностями доходы или, скорее, наоборот, – потребности с доходами. Везде нужен был хозяйский глаз. В том же Боббио роль заместителя аббата, настоятеля (praepositus) – аббат крупного монастыря этой эпохи почти не жил в своём аббатстве, занятый церковными и политическими делами – сводилась почти целиком к хозяйственным заботам. Под его руководством различными отраслями монастырского хозяйства и жизни заведовали другие монахи: келарь, эконом, огородник (ortolanus), садовод (custos pomorum) и так далее. Монахи были подчинены декану и его помощникам. Особые лица (из монахов же) заведовали сбором милостыни, приёмом гостей и паломников, библиотекой, архивом и так далее. Разумеется, не все монастыри достигали такого хозяйственного процветания, но почти все шли к этому. Призывы к «довольству трудами рук своих» в большинстве случаев забывались. Необходимости в труде монахов не было: хозяйство монастыря и без их участия было полною чашей. Экономическая эволюция поставила монастыри в совершенно новое положение, при котором труд монахов мог быть свободным и лёгким, мог сделать только религиозным упражнением или совершенно отсутствовать. И мир со всех сторон вторгался в аббатство, которое само, как Боббио, устраивало на своих землях ярмарки. Государство возлагало на него заботы о мостах и дорогах в пределах его земель. Паломники и гости, останавливавшиеся в монастыре, говорили о мире и сами были частью постоянно бегущей через монастырь мирской волны. Аббат жил при дворе государя и менее всего был занят религиозною жизнью своего монастыря. К тому же часто аббатом бывал член белого духовенства или даже мирянин, заинтересованный только экономическим преуспеянием своего монастыря. Со времени Карла Мартелла во главе монастырей, даже женских, появляются люди, вознаграждаемые аббатствами за свои военные заслуги – аббаты-графы (abbacomites). Неудивительно, что вместе с проникновением в монастырь «заточников» – прежних сеньоров или князей – проникали в него и партийные страсти. Аббатство забывало своё религиозное назначение и, обуреваемое партийной страстью, вступало в мир в качестве не только крупного землевладельца, но и политической силы.