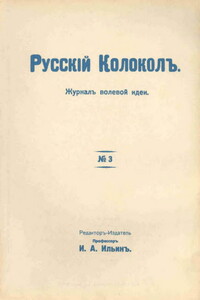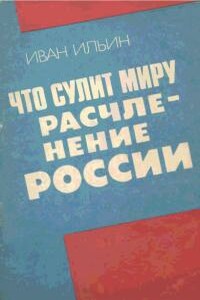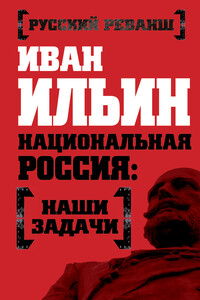Религиозный смысл философии | страница 49
Таким образом, духовный опыт сообщает философу черту преимущественной и высшей силы. Дух, утвержденный на Предмете, является не рыхлою средою, не «жидким» началом и не «сыпучим» телом; жизнь его не течет, не обсыпается и не растворяется, она развертывается в ряд предметных поступков, в неуклонное духовное восхождение. Не его вовлекает, заражает, влечет и гонит поток обстоятельств; но он останавливает собою все воздействия, идущие от инобытия, преломляет их, отбирает, приемлет или отвергает и, формируя, направляет по-новому. Не поводы его подчиняют, а он создает новые причины; ибо он есть больше, чем естественный итог скрестившихся причинных рядов: в нем живет творческое начало, от которого завязываются и уходят в будущее ряды причин и воздействий. Воля его, конечно, не имеет абсолютной свободы; но она всегда сохраняет свободу неограниченно-превозмогающей силы: она способна двигаться по линии наибольшего сопротивления и, осуществляя это движение, она обнаруживает этим свою независимость, свое единство с предметною необходимостью и тем самым свою предметную свободу по отношению к чужеродному инобытию.
Это можно называть, если угодно, «силою воли»; однако это есть нечто большее, ибо сила ее утверждена здесь во благе. Это можно называть и «характером», но предметным или духовным характером. Ибо духовный опыт воспитывает не просто «сильную» личность, но личность, сильную в предметном служении, которая потому сильна в служении, что служение принято ею добровольно, стало ее свойственною сущностью и превратилась в свободное горение. Именно через это она сделалась больше, чем она сама.
Вынашивая и выносив в себе духовно-предметный опыт, философический дух приобретает особый закономерный жизненный ритм – в чувствовании, в восприятии, видении, мышлении, слове и действии, – который нередко делает его для других странным, темным, недоступным, – то чудесным и неотразимо привлекательным для одних, то неприятным и ненавистным для других. Своеобразие этого личного строя выражается нередко в самом отношении личного духа к его собственному телу, в этой преимущественной властности, независимости, в способности к забвению, отвлечению, не чувствующему уходу. Пребывая в духовном опыте, человек способен не страдать от того, что неизбежно вызывает страдания в других, радоваться без явных причин и испытывать глубокий покой там, где другие изнемогают от мертвящего страха. Имея в себе и перед собою предметную градацию целей и ценностей, он слагает свою жизнь не из субъективных «возможностей», но из духовных «необходимостей», так что он чувствует себя правым только тогда – но тогда уже