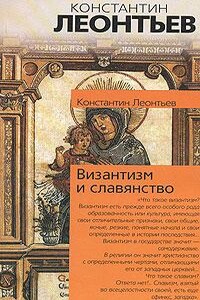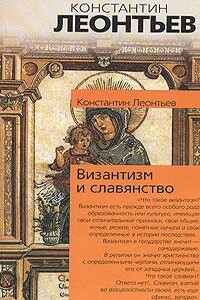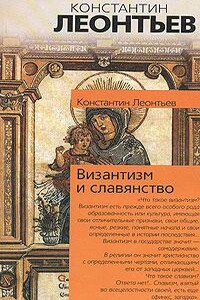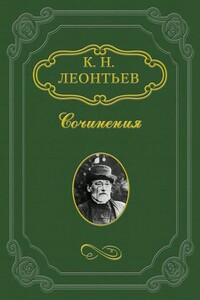Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения | страница 19
«Общественное мнение в Англии – это не что иное, как мнение среднего класса, – говорит он. – В Соединенных Штатах это мнение большинства всех людей белой кожи; во всяком случае большинство есть не что иное, как собирательная бездарность (une médiocrité collective)».
«Все великое, – говорит он в другом месте, – было в истории сделано отдельными лицами (великими людьми), а не толпою».
Эпиграфом своей книги он ставит ту же мысль о необходимости разнообразия, которую первый выразил Вильгельм фон Гумбольдт в давным-давно забытой и почти неизвестной книге «Опыт определить границы влияния государства на лицо».
«Цель человечества, – говорит В. фон Гумбольдт, – есть развитие в своей среде наибольшего разнообразия. Для этого необходимы: свобода и разнообразие положений».
Книга В. фон Гумбольдта писана еще в конце прошлого столетия, когда государственное начало было везде очень сильно (и в руках революционного Конвента еще сильнее, чем у монархов), и потому В. фон Гумбольдт боится, чтобы государство не задушило свободы лица развиваться своеобразно; а Дж. С. Милль гораздо больше боится общественного мнения и общей современной рутины, чем государственного деспотизма. В этом он, конечно, прав, но как мы ниже видим, продолжая, как и все либералы, верить в европейский прогресс и не понимая, что (для самой Европы, по крайней мере) прогресс есть не что иное, как неизлечимая, предсмертная болезнь вторичного смесительного упрощения; он изыскивает для излечения вовсе не подходящие средства.
Будем продолжать выписки из его книги:
Заботы моралистов и многих честных буржуа, заботящихся только о том, чтобы народ работал смирно и не пьянствовал, – эти заботы он зовет со злобой «une marotte humanitaire de peu de conséquence»[15].
Он приводит слова Токвиля о том, что «французы позднейших поколений гораздо больше похожи друг на друга, чем их отцы и деды», и жалуется, что нынешние англичане, по его мнению, еще однообразнее французов.
И еще вот что говорит Милль об Европе:
«В прежнее время в Европе отдельные лица, сословия, нации были чрезвычайно различны друг от друга; они открыли себе множество разнообразных исторических путей, из коих каждый вел к чему-нибудь драгоценному; и хотя во все эпохи те, кои шли разными путями, не обнаруживали терпимости друг к другу, хотя все они сочли бы прекрасным сделать всех других насильно схожими с самими собою, однако взаимные усилия их помешать чужому развитию редко имели прочный успех, и каждый в свою очередь вынужден был, наконец, воспользоваться благом, выработанным другими. По-моему, Европа именно обязана этому богатству путей своим разнообразным развитием. Но она уже начинает в значительной степени утрачивать это свойство (преимущество).