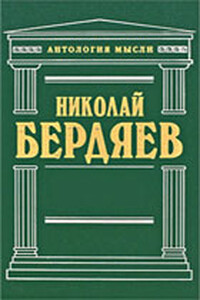Дух и реальность | страница 39
Аскеза есть то, что может сделать человек. Человек может практиковать воздержание, может поститься, отказаться от сексуальной жизни, раздать имущество ближним, ограничить свои потребности и т. д. Он может попытаться это делать сегодня же. Но не от него только зависит иметь дар любви, иметь мистический опыт общения с Богом и иным миром, созерцать божественный свет. Мистика в отличие от аскетики есть то, что исходит не от человека только, что предполагает действие Божьей благодати, веяние Духа в человеке. Пневма, как ночной ветер, входит в человека и изменяет его. Иногда говорят, что в аскезе человек поднимается к Богу, в мистике же Бог сходит к человеку. Но аскезу нужно отличать от морали. Через аскезу человек стремится к совершенству, через мораль же исполняет минимум. Но ошибочно смешивать евангельский максимализм с аскезой, это разные начала. Евангельский максимализм есть максимализм открывающегося Царства Божьего. Там все максималистично и абсолютно. В аскезе же есть принцип относительности человеческого пути, пути методического. И в аскезе нет радости евангельской благой вести о Царстве Божьем как совершенно новой жизни, освобожденной от тяжести мира. В Евангелии раскрывается свобода духа и духовной жизни, аскеза же остается подчиненной детерминации. Неверно истолковывать евангельский призыв к несению креста, к самоотверженной жертве как аскетический принцип. Это совсем иное. Несение креста есть основная мистерия жизни в этом мире, это совсем не есть аскетический прием и совсем не означает самоистязания. Наоборот, несение креста есть освобождение от темноты и мрака мира и мрака человеческого страдания, есть просветление. Оно есть приобщение к пути Христа, а не прием и метод человека, не заслуга для спасения. Аскеза, переходящая в истязание, как раз и отклоняла от осуществления евангельских заветов. Дух Евангелия более всего противоположен утилитаризму и законничеству в аскезе. Евангелие преодолевает древний страх перед нечистым.
Когда мы исследуем психологию аскезы, то мы неизбежно приходим к постановке проблемы: угодно ли Богу, чтобы человек себя мучил и истязал. В истории аскезы огромную роль играло верование в то, что человек умилостивляет Бога и умиряет Его гнев сознательным и методическим причинением себе страданий. Это есть перенесение в христианство древних языческих верований о необходимости умилостивлять богов кровавыми жертвами. Это наложило роковую печать и на самое понимание искупления. Такого рода непросветленные верования ничего общего не имеют с признанием положительного смысла страдания и жертвы. Аскеза во всяком случае требует постоянного одухотворения и освобождения от магических элементов. В лютеровской критике аскезы было много верного и освобождающего, хотя его собственное понимание духовной жизни было ограниченно и бедно. Лютер пришел к тому убеждению, что монахами делаются от отчаяния, из невозможности иначе спастись, т. е. из страха. Отсюда рождался утилитаризм в аскезе, утилитарно-сотериологическое понимание добрых дел. Лютер хотел освободиться от тяжести греха через доверие к Христу. Сам он изначально искал гарантий спасения и убедился в том, что монашеский аскетизм таких гарантий не дает. Но этим он не возвышается над утилитарным пониманием духовной жизни. То же мы видим и в янсенизме с его страшным Богом.