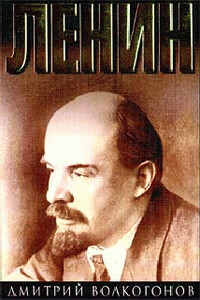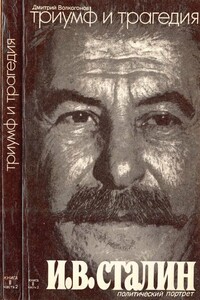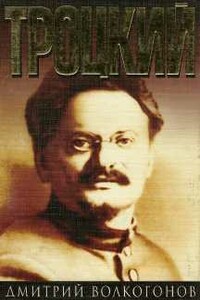Ленин. Кн. 1 | страница 38
Этой драме, которая привлекла внимание России в конце прошлого века, посвящено немало публикаций. Наиболее интересны из них - в журналах „Былое" и „Голос минувшего". Читатель, видимо, знает, что все хлопоты матери оказались напрасными не только из-за „жестокости" царя, но и из-за отказа сына подать прошение о помиловании. Кто пересилил себя, поступившись революционным достоинством, тот был помилован: смертная казнь была им заменена многолетней каторгой.
Процесс был очень коротким: 15 апреля начался, а 19-го был оглашен приговор. Нераскаявшиеся Андреюшкин, Генералов, Осипанов, Ульянов и Шевырев были приговорены к повешению. Но спасение еще брезжило в их душах. Во время свидания матери с сьшом после приговора на ее мольбы подписать прошение Александр тихо, но твердо произнес:
- Не могу сделать этого после всего, что признал на суде. Ведь это будет неискренне.
Присутствовавший на процессе и свидании матери с сыном юрист Князев уже после Октябрьской революции вспоминал, что в беседе Александр приводил такой довод: „Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего противника, другой еще нет, и тот, кто выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить!"
Поведение Александра было в высшей степени мужественным. Его последним желанием, высказанным матери, была просьба: дать что-нибудь почитать из Гейне. Князев помог найти томик сочинений, и великий немецкий поэт последние дни жизни Александра на этой земле был его душеприказчиком и духовником… Ожидая рокового, последнего грохота запора камеры каземата, Александр мог шептать слова поэта:
В часах песочная струя
Иссякла понемногу…>29
За два часа до повешения во дворе Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 года, после полуночи, осужденным объявили, что скоро казнь. То был последний шанс обратиться с прошением. Но и перед лицом вечного небытия молодые русские люди, будучи неправыми исторически, в моральном смысле оказались достойными народной памяти. Они не были фанатиками идеи, но верили, что судьбы народа могут изменить революционные акты насилия против тиранов. Большевики, которые появятся в начале приближающегося века (который станет почти весь „их" веком), на словах осуждали индивидуальный террор, а на деле провозгласили террор, но уже массовый. Попытки студентов изменить вектор развития, почитавших честь и достоинство дороже самой жизни, выглядели и выглядят исторически наивными. Но нельзя не восхититься их готовностью к жертвенности во имя идеалов освобождения. Таких, особенно среди русских народников, всегда было много. Возможно, именно в этой среде нашла свое выражение „русская идея": туманная и аморфная, но великая и бессмертная.