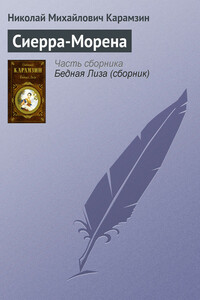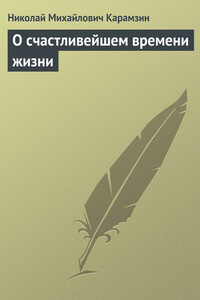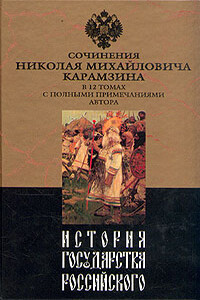Повести | страница 34
Карамзин открывал новые семантические оттенки в старых, часто книжно-славянских словах, обогащая, по существу, русский язык новыми идеями и практической возможностью их выразить («потребность», «развитие», «образ» – применительно к искусству и т. п.), широко применял лексические и фразеологические кальки (с французского), большинство из которых прочно были усвоены русским языком. Новые понятия и представления получили обозначение в новых словосочетаниях; создавал писатель и новые слова, которые навсегда вошли в русский язык («промышленность», «общественность», «общеполезный», «человечный» и многие другие).
Одновременно Карамзин вел борьбу с употреблением устаревших церковнославянизмов, слов и оборотов старой книжности. «Новый слог», создание которого современники ставили в заслугу Карамзину, широко применялся им в «средних» жанрах – повестях, письмах (частных и литературных), критических статьях и в лирике. Белинский, отмечая заслуги Карамзина, писал, что он «преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи».[19] Историческая ограниченность реформы сказалась в том, что Карамзин вводил в литературный язык преимущественно слова образованного дворянского общества. Отсюда – известное засорение речи иностранными словами и лексикой аристократических кругов, деление слов на «благородные» и «низкие» (типа «мужики», «парень» и т. д.), изгонявшиеся из литературного обращения, создание по западноевропейскому образцу оборотов речи и выражений, которые вели к вычурности слога. При переиздании «Писем русского путешественника» в начале XIX в. Карамзин отказался от многочисленных галлицизмов и заменил иностранные слова русскими. Позже Пушкин эту «манерность, робость и бледность» стиля Карамзина называл «вредными последствиями» подражательности и боязни обогащать русский язык за счет народных источников.
Новый расцвет литературной деятельности Карамзина начинается с 1802 г., когда он приступил к изданию журнала «Вестник Европы». Карамзин был уже известным и авторитетным писателем. За протекшее десятилетие он вырос как мыслитель и как художник. Правительственный либерализм первых лет царствования Александра I, цензурные послабления позволили ему высказываться в новом журнале более свободно и по более широкому кругу вопросов. К сотрудничеству он привлек Державина, Дмитриева и своих молодых последователей – Жуковского (он опубликовал в журнале элегию «Сельское кладбище») и В. Измайлова.