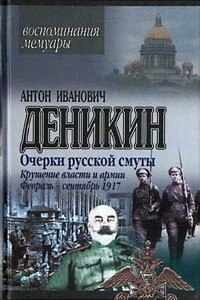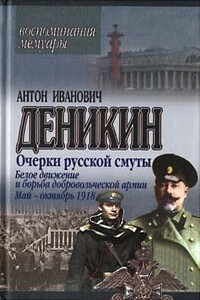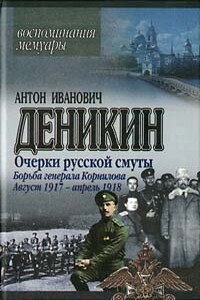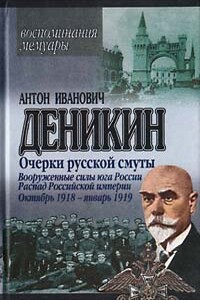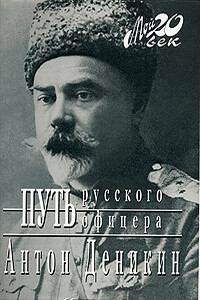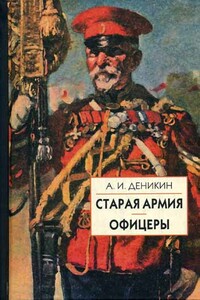Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. — март 1920 г. | страница 56
Действия повстанческих отрядов вносили подчас весьма серьезные осложнения в стратегию всех борющихся сторон, ослабляя попеременно то одну, то другую, внося хаос в тылу и отвлекая войска с фронта. Объективно повстанчество являлось фактором положительным для нас на территории, занятой врагом, и тотчас же становилось ярко отрицательным, когда территория попадала в наши руки. Поэтому с повстанчеством вели борьбу все три режима – петлюровский, советский и добровольческий. Даже факты добровольного перехода к нам некоторых повстанческих банд являлись только тяжелой обузой, дискредитируя власть и армию. «Наибольшее зло, – писал мне генерал Драгомиров (главноначальствующий Киевской областью. Сентябрь 1919 г.), – это атаманы, перешедшие на нашу сторону, вроде Струка. Это типичный разбойник, которому суждена, несомненно, виселица. Принимать их к нам и сохранять их отряды – это только порочить наше дело. При первой возможности его отряд буду расформировывать». Вместе с тем генерал Драгомиров считал необходимым поставить борьбу с бандитизмом на первый план, ибо «ни о каком гражданском правопорядке невозможно говорить, пока мы не сумеем обеспечить самое элементарное спокойствие и безопасность личную и имущественную…».
Атаманство приносило с собой элементы дезорганизации и разложения; махновщина, кроме того, была наиболее антагонистична идее Белого движения. Эта точка зрения впоследствии, в крымский период, претерпела в глазах нового командования некоторые изменения. В июне 1920 года по поручению генерала Врангеля в стан Махно явился посланец, привезший письмо из штаба: