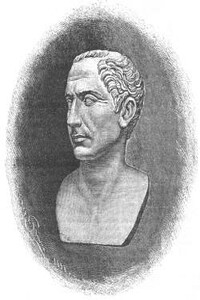Сократ. Его жизнь и философская деятельность | страница 30
Нам это все не покажется ни особенно убедительным, ни даже оригинальным, но оно было таким, когда на площадях Афин перед толпою слушателей, религиозные концепции которых не поднимались выше Олимпа, Сократ с обычною своей логикою и силою речи впервые стал развивать этот аргумент о всепроникающем и всеустрояющем Божественном Разуме. Для среднего ума того времени такое абстрактное мышление было не под силу, и действительно оно было плохо понято и, как увидим, навлекло на Сократа обвинение в ереси.
Что же касается его общественно-политических взглядов, то при оценке их нам не следует упускать из виду того своеобразного характера, какой носила тогдашняя эпоха. Афинская полития была еще, по-видимому, в полном цвету: все старания и попытки поземельных классов устранить с политической арены народную массу и поставить у кормила власти аристократическую олигархию, казалось, были бессильны надломить крепость гражданского самосознания; заговоры их оканчивались всякий раз плачевным фиаско, и народ все еще продолжал быть носителем державности как в конституционной теории, так и на практике государственной жизни. Вместе с тем, под разлагающим влиянием денежного хозяйства, обратившего одну часть населения в алчную коммерческую буржуазию, а другую – в паразитическую городскую чернь, устои афинского общества незаметным, но роковым образом стали подтачиваться нравственною и политическою деморализацией, и на общественном горизонте стала все яснее и яснее вырисовываться надвигающаяся тень деспотизма и рабства. Людьми стало овладевать безотчетное беспокойство, и те из них, которые обладали достаточною проницательностью, чтобы видеть, к какой беспросветной бездне неуклонно стремится общество, стали крепко задумываться над причинами этого печального явления и над мерами, которые могли бы приостановить его рост или даже всецело устранить его. Им начинало казаться, что корни зла, настоящего и грядущего, следует искать в той неподготовленности к политической жизни и разрешению задач государственного правления, которую обнаруживали и, по природе своей, должны были обнаруживать те и другие из существующих классов общества – как низшие, благодаря невежеству и легкомыслию, на которые они осуждены своим образом жизни и родом деятельности, так и высшие, ослепляемые честолюбием и властолюбием. Ни демократия поэтому, ни олигархия не годятся по существу своему как формы правления, и в чьи бы объятия ни кинулось государство в поисках благополучия или хотя бы устойчивости, оно не найдет их ни в народной массе, ни в богатых классах. Спасение возможно лишь в одном случае, а именно тогда, когда у государственного руля будут стоять отборнейшие, лучшие и образованнейшие люди – “аристократия” в настоящем и буквальном значении этого слова. Пусть это идет вразрез с ходячими теориями о народовластии или правах собственности, но в мире общественном, как в мире физическом, нам приходится считаться не с отвлеченными принципами, а с конкретными фактами, которые слишком часто учат совсем иному, чем первые.