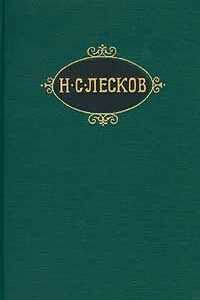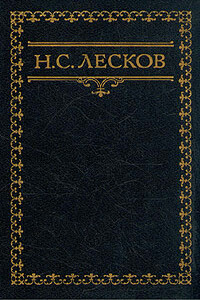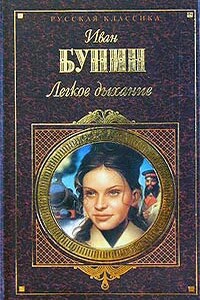Из одного дорожного дневника | страница 27
– Наш Белосток – это литовский Манчестер, только шкода (жаль), железных дорог к нему нет, – сказал мой хозяин в заключение, после долгих рассказов о белостокской промышленности.
– Теперь и дорога железная есть, – отвечал я.
– Варшавская-то?
– Да.
– Э! Она нам никакая помощь.
– Отчего так?
– Что ж, из Варшавы и из Петербурга на наши фабрики возить нечего. Шерсть идет к нам на фурманах,[15] через Пинск с Волыни, из Харькова.
– Зато в Петербург можете отправлять товар.
– Да это так; но нам нужно, чтоб шерсть ходче шла сюда.
– А разве бывает недостаток?
– Ой-ой! И какой еще. Закупят шерсть в Пруссию, а нового подвоза нет: жди его, пока по болоту прителепают на фурманах. Поганое дело с этим подвозом.
– А по Нареву?
– Давайте покой с тем Наревом!
– Разве по нем не идет шерсть?
– Идет, почему не идет! Только когда она выйдет и когда придет – это уж как трафится (случится), а в торговом деле это знаете что: простой на фабрике, разоренье.
– Так когда железную дорогу на Пинск выстроят, стало быть, много лучше будет? – спросил я.
– Только и просим у Бога этой дороги.
А отчего именно в Белостоке разрослась фабрикация трико, так-таки и не добился. Впрочем, ведь нет же указаний, почему косы делают в Рыльске! Так, фон Филимонов там жил – оттого и косы делают, а здесь Захерт жил – оттого трико делают.
Из Белостока за 10 рублей наняли тройку лошадей, до Беловежской пущи. Говорят, дорога необыкновенно тяжелая: песок по ступицу.
15-го сентября. Беловежа.
Дорога от Белостока до Беловежской пущи, в самом деле, утомительная. Песок и лес, лес и песок. Около деревень и на перекрестках дорог встречаются кучки деревянных крестов. Иные из них очень высоки, выше деревянных колоколен: просто целая сосна острогана, и вверху врублена крестовая перекладина. На трех перекрестках мы насчитали по 14-ти крестов в группе. Кресты такие ставятся здесь для обращения внимания неба к полевому урожаю. Так это объясняют мужики, так объяснял и Сырокомля: не помогает ничто на голодной литовской почве, – говорит даровитый любимец литовской музы.[16]
Простолюдины от Белостока говорят уже очень дурно: и по-русски, и по-малороссийски, и по-польски разговориться с ними очень трудно, но по-польски все-таки легче. Ехали мы на одних лошадях до Беловежи, потому что почтового тракта в пуще нет. Тянулись целехонький день, с кормежкой (z popasem). Удивительное дело, что здесь ни в одной корчме, ни в одном доме еще не вставляют двойных рам, тогда как везде холод нестерпимый. «Чтоб блохи поумирали», – объяснил нам один сельский начальник. Недурно! Из-за вражды к блохам лишать себя угла, в котором было бы можно обогреться. Я совсем расхворался, но мужаюсь; зато мой сопутник и тешит меня. Судьба, наделив его прекрасным здоровьем, наказала любовью к гомеопатии и верою в неотразимую силу бесконечно малых приемов. С тех пор как я не успеваю переменять носовых платков и глаза мои начинают напоминать какерлака, он уже дал мне проглотить каплю aconitum, каплю chamomilla, каплю arsenicum в каком-то миллионном делении и две капли nux vomica. Принимать все это для меня нетрудно, ибо я уверен, что и вся баночка arsenicum, назначенная, вероятно, на сто человек, в сотом делении не отравит ни одной мыши, но сил нет удержаться от смеха, глядя на его милое попечение обо мне и добродушное доверие к волшебной силе своих стеклянных наперстков с каплею ромашки, разведенною в 300 каплях спирта. После каждой капли иного свойства он уверяет меня, что мне лучше; я соглашаюсь, но вслед затем начинаю чихать, так что лесное эхо разносит мое взвизгиванье, и мой благодушный врач говорит: