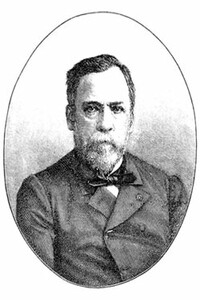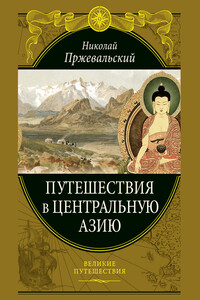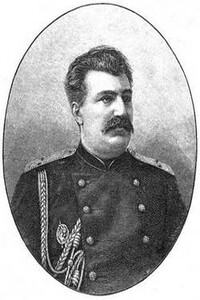Чарльз Лайель. Его жизнь и научная деятельность | страница 46
Эти взгляды он высказывал и публично; не столь резким языком, правда, но с достаточной откровенностью. Так, в своем американском путешествии он посвятил целую главу английским университетам, указывая на подчиненное положение науки и вредные последствия этой системы. То же говорил он на съездах Британской ассоциации, да и при всяком удобном случае, когда речь заходила об образовании.
Точно так же стремился он к освобождению науки от знатных покровителей. В старые времена, когда наука была в загоне, ее представителям волей-неволей приходилось ютиться около богатых и знатных меценатов. Астроном составлял гороскопы какой-нибудь владетельной особе, алхимик отыскивал для нее философский камень, доктор составлял эликсиры для поддержания ее здоровья и так далее. Позднее, когда наука приобрела независимое положение, погоня за высокими покровителями стала излишней, но сохранилась в силу «переживания», выражаясь в стремлении ученых обществ и учреждений избирать светлейших, сиятельнейших, превосходительнейших патронов, президентов и почетных членов… Лайель восставал против этого обычая, находя его несовместимым с достоинством науки. Так, в 1848 году он пишет сестре по поводу одного из заседаний совета «Королевского общества»: «Я указал на то, что из сорока восьми членов Верхней палаты, приписывающих к своим фамилиям „F.R.S.“ (Fellow Royal Society – Член Королевского Общества) и представляющих ту часть нашей аристократии, которая наиболее заботится о науке, никто никогда не помещал в журнале общества ни единого сообщения, за исключением лорда Брума, – да и то за тридцать три года до его избрания в пэры… Я сказал, что весьма уважаю таланты наших пэров, но эти таланты еще сильнее оттеняют их пренебрежение к науке…»
Стремление уклониться от общественной деятельности не означает в данном случае узкой специализации или равнодушия к развитию человечества. Лайель отнюдь не принадлежал к числу тех ученых, которые глухи и слепы ко всему, кроме своей специальности. Напротив, это был человек с широкими интересами, с эстетическими наклонностями, унаследовавший от отца любовь к поэзии, музыке, живописи… Он не хотел работать в сфере общественной деятельности, находя, что область, которую он отмежевал себе, достаточно широка, чтобы поглотить все его силы. Но это не мешало ему следить за тем, что творилось в других областях.
Перелистывая его книгу, удивляешься не только громадной и разносторонней эрудиции автора, но и его литературному образованию. Не знаем, найдется ли еще ученый трактат, в котором бы уделялось такое место поэзии. Редкая глава обходится без цитаты: Лайель цитирует из Вергилия, Овидия, Лукреция, Шекспира, Мильтона, Байрона, Данте и так далее. В юности он сам пробовал «бряцать на лире вдохновенной»; одно из таких бряцаний мы находим в его письмах – стихотворение, посвященное острову Стаффа, не столько поэтическое, сколько геологическое, в котором он с большим пафосом распространяется о вулканических силах, породивших базальтовые столбы Фингаловой пещеры. Потом он попробовал писать о геологии прозой; вышло гораздо лучше, и он распростился с музой. Тем не менее, любовь к поэзии у него сохранилась. Молодость Лайеля совпала с великим событием в английской и всемирной литературе: появился Байрон. Но бешеная муза великого поэта, кажется, немножко напугала спокойного и рассудительного геолога: по крайней мере, в письмах его почти не упоминается о Байроне, хотя о поэзии и литературе вообще ведется речь довольно часто. По-видимому, он предпочитал миролюбивую поэзию Вордсворта, Грея и других, воспевавших розы, грезы, слезы, соловья и прочее, что полагается воспевать по уставу чистого искусства. Любил он также романы и баллады Вальтера Скотта, с которым был знаком лично, и восхищался произведениями г-жи Сталь.