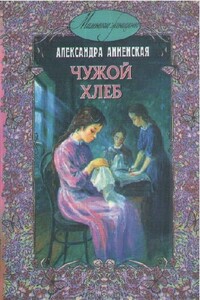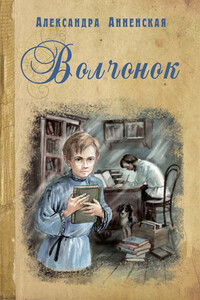Чарльз Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность | страница 30
Привыкнув ничего не печатать без предварительной цензуры Форстера, он и новый рассказ посылал к нему по частям, но это его не удовлетворило: ему захотелось видеть, какое впечатление произведет на друзей эта новая рождественская сказка, хотелось самому посмотреть, как она будет напечатана и проиллюстрирована. И вот в ноябре, несмотря на все трудности зимнего пути, Диккенс отправился в Лондон и прочел свой «Колокольный звон» в квартире Форстера избранному кружку друзей. Художник Мэклиз набросал изящную картинку этого собрания, хранящуюся в Кенсигтонском музее в Лондоне. Диккенс читает за столом, и яркий свет канделябра образует как бы ореол вокруг его головы; по правую сторону его сидит Фокс, по левую Карлейль; дальше Джерольд, художники Мэклиз и Стенфилд и брат Диккенса; Дайс и Гернесс плачут, закрыв глаза платками; в углу, в кресле, Джон Форстер, вся поза и выражение лица которого говорят о восторженном удивлении. Успех чтения был полный, и горячие похвалы друзей вполне вознаградили автора за неудобства путешествия.
На пути в Англию Диккенс посетил города Северной Италии: Парму, Модену, Болонью, Венецию, Верону и Мантую. Особенно сильное впечатление произвела на него Венеция: «До сих пор я никогда не видел ничего, что не решался бы описать, – говорит он в письме к Форстеру, – но я чувствую, что описать Венецию невозможно. Все волшебные картины „Арабских ночей“ ничто перед церковью Св. Марка. Чудная, роскошная действительность Венеции превосходит фантазию самого необузданного мечтателя. Опиум не может создать такого города, волшебство не может вызвать такого призрака. Все, что я слышал о ней, все, что читал в стихах и прозе, все, что я воображал, далеко не соответствует действительности. Когда я стоял в светлое, холодное утро на Пиацце, величие этой площади казалось мне невыносимым. Когда из этого света я погрузился в мрачное прошлое города, в его страшные тюрьмы под водой, его мрачные судилища, потайные ходы, где факелы меркнут в руках проводников, как будто не вынося воздуха, пропитанного ужасами прежних дней; когда я снова вышел в лучезарный, волшебный город настоящего и затем меня еще раз окутал мрак, мрак громадных церквей, древних могил – я почувствовал в себе новое ощущение, новую память, новую душу. С этих пор Венеция составляет часть моего мозга».
Вернувшись из Лондона, Диккенс вместе с женой и свояченицей совершил путешествие по Южной Италии. Рим на первых порах разочаровал романиста: ему казалось, что широкие улицы, нарядные магазины, обыкновенные экипажи, деловой вид прохожих – все это придает отпечаток пошлости и обыденности вечному городу. Только вид древних развалин, и особенно Колизей, примирил его со «столицей мира». Зато никакие красоты природы и искусства не могли примирить его с грязью и нищетой неаполитанских лаццарони. Он находил, что нельзя говорить о живописных видах, когда перед глазами стоит вся эта масса жалких, полунагих, голодных, грязных, изъеденных паразитами людей. Неаполитанский способ погребения бедняков возмущал его: «Каждый день по городу разъезжает телега, которая забирает трупы из тюрем, госпиталей, лачуг и свозит их на кладбище. Там вырыто триста шестьдесят пять колодцев, прикрытых большими камнями. Каждый вечер открывают один из колодцев, выбрасывают туда трупы, заливают их известкой, заваливают камнем, и дело кончено. Ужасно!»