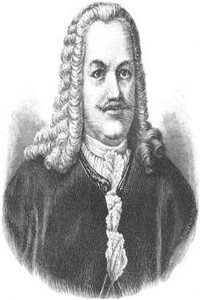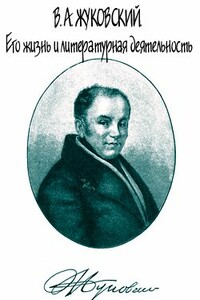Денис Фонвизин. Его жизнь и литературная деятельность | страница 35
“Главное старание прилагают, – говорит он дальше “по Дюкло”, – о том, чтобы один стал богословом, другой живописцем, третий столяром, но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит”. Мечтания о создании новой породы людей были idée fixe XVIII века. Забывали, что для того, чтобы люди поняли саму необходимость воспитания, также нужно знание. Значение образования ума в смысле воспитательном не признавали люди известной партии. Бецкий взялся осуществить эти идеи в России.
Фонвизин очень ясно видит злоупотребления духовной власти и особенно зло католического воспитания. Замечательно, что, вступая на почву религии католической, Фонвизин сразу забывает о своем “благоразумии” и становится вольнодумцем, как бы вовсе не признавая религии вне православия. Вследствие этого он не щадит католическое духовенство.
Праздник Fête-Dieu[15] с его мистериями наводит Фонвизина на новые размышления, унижающие французов. Праздничное торжество состоит в шествии, во время которого Святые Тайны носимы бывают по городу в сопровождении народа. Знатные особы наряжаются все в костюмы. Один представляет Пилата, другой Каиафу, и так далее. Дамы и девицы одеты мироносицами. Народ, мещанство, конечно, тоже наряжается, изображая дьявола, чертей и так далее. Роли заранее распределяются и иногда переходят наследственно из рода в род. Во всем этом Фонвизин видит несомненное доказательство, что народ “пресмыкается во мраке глубочайшего невежества”. Что сказал бы француз-путешественник о русском народе, наблюдая наши народные обычаи, общение с домовыми, лешими и тому подобные игры, забавы карлов и переодевания в домах бояр и при дворе, заговоры и заклятия на мельницах и так далее?…
Строгий к философам, Фонвизин не менее строг и к простым смертным. “Правда, что и господа есть изрядные скотики. Надобно знать, что такой голи, каковы французы, нет на свете”. Экономию и простоту привычек он объясняет лишь скаредностью. Он никак не может понять, почему “того же достатка” люди, какие у нас по-барски живут, рады бы к русскому барину в слуги пойти, забывая совершенно даровой труд крепостных, которые одевают, обувают и кормят господ. “Белье столовое так мерзко, – пишет он, – что у знатных праздничное несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается”. Плохо верится в такое превосходство нашей опрятности. Кроме свидетельства Вигеля, которое приведено выше, имеется масса указаний на противное в журнальной сатире того времени. “Всякая всячина” так описывает дом одного помещика: