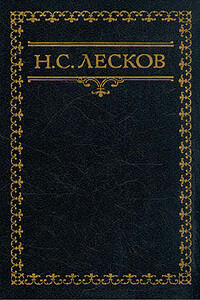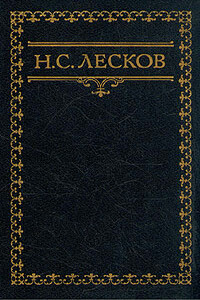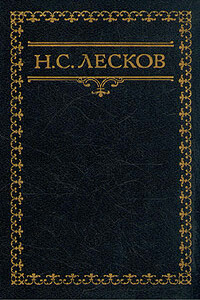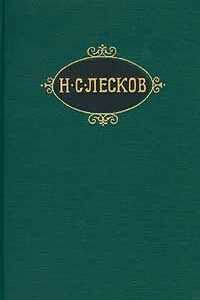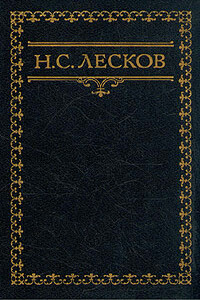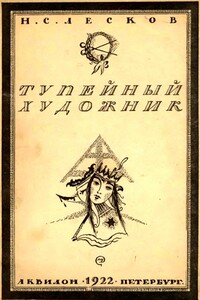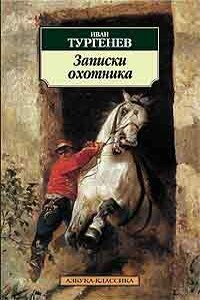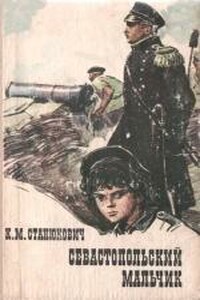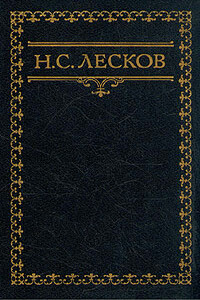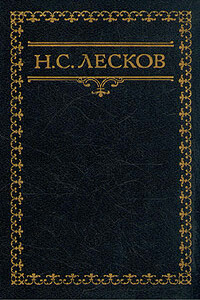Сибирские картинки XVIII века | страница 36
Тогда увидали, что на смех назначенный в следователи «штрафной поп» и пропойца Чемесов ведет дело как энергический и справедливый человек, и поп Чемесов исчезает и о нем больше не упоминается, а небезуспешно начатое им дело тянулось многие годы и, дошедши опять до тобольской консистории, получило себе там очень умиротворяющее заглавие, а именно, его наименовали здесь: «Туруханское дело о злоупотреблении природною простотою жителей».
Более удачного тона для смягчения некрасивой сущности этого дела, кажется, трудно было придумать; но однако священник Кайдалов и этим еще остался недоволен и, когда ему дали «вопросные пункты», – между прочим, не употреблял и он во зло простоту местных природных жителей? – то он обиделся и отвечал: «я никакой простоты в ясашных не знаю, и даже никогда не подозревал, что они просты».
Такие наглые ответы Кайдалов давал в 1824 году, зная, что князь А. Н. Голицын уже охладел к письму именитого путешественника и не следил за этим грубым делом, так как вниманием его после пользовались иные дела, на которые «смотрела Европа»: в 1820 г. «в Одессе и Кишиневе появилось до десяти тысяч греческих выходцев, удалившихся из Константинополя, и многие из сих несчастных единоверцев наших были ввержены в нищету». Голицын старался «на них обратить внимание императора Александра 1-го и исходатайствовал позволение открыть в их пользу подписку, которою и собрал 900.000 рублей», а потом сейчас же «приступил к сбору для хиосцев и критян, и умел и на этот предмет собрать до 750.000», а в 1824 г., когда Кайдалов нахальничал, давая ответы, Голицын был уже уволен от звания министра духовных дел, и опасаться его было нечего. Так это дело и протянули; а затем наступил 1825 год, – год кончины императора Александра I и других, последовавших за тем, событий, изменивших дух и направление в управлении всеми делами.