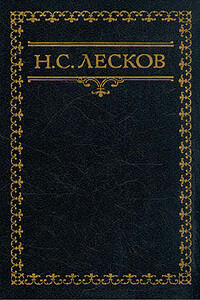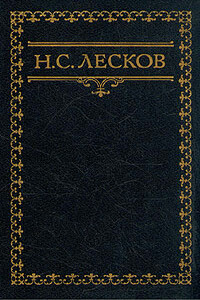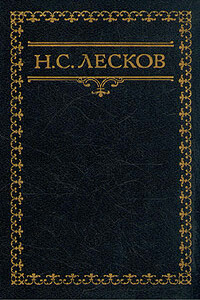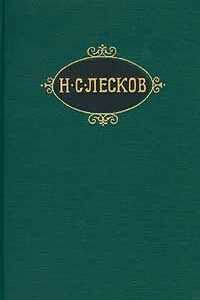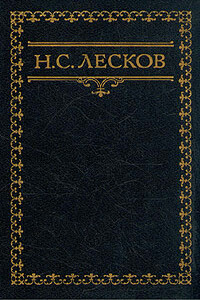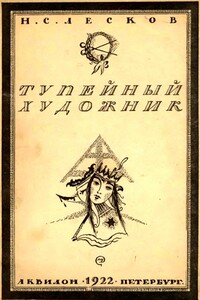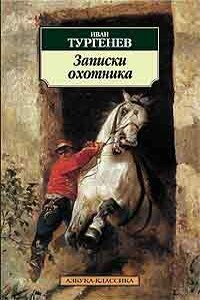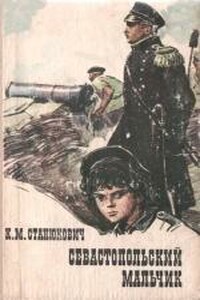Сибирские картинки XVIII века | страница 27
Сибирское духовенство тогдашнего времени, и без того дерзкое и непокорное, увидало в этом циркуляре Арсения «закон непокорности светским властям» и, «опираясь на него, упорно отказывалось от всяких сношений с светскими судами и администраторами». Дух же, возобладавший тогда в правительстве, заставлял администратора «признать мнимую законодательную силу указа митрополита Арсения».
При таких обстоятельствах, какие бы жалобы ни доходили от обывателей до «светских командиров» на «нестерпимые поборы» со стороны духовенства, – командиры эти никакой защиты «претерпевающим» оказать не могли.
Арсений однако здесь пробыл не долго: заведя порядки в Сибири, он был отозван на ростовскую кафедру, а на место его стали другие: Антоний Нарожницкий (1742–1748), а потом Селиверст Гловатский (1749–1755). Это были люди не такие крутые, как Мацеевич, но «закон Арсения стоял в своей силе» и духовенство постоянно оказывало «непокорность» светским правителям. Бывали в этом роде случаи, которым даже трудно верить.
В 1751 году (при Селиверсте Гловатском) проживавший в городе Томске коллежский асессор Костюрин убил принадлежавшую ему крепостную девку, а потом велел ее одеть и «положить под святые» и позвать священника, чтобы отправить по ней панихиду. Пришел священник «градо-богоявленской церкви с причетом», и когда стали петь панихиду, то «причет усмотрел на покойнице боевые янаки и тотчас же, по выходе из дома Костюрина, подал о том ведение в воеводскую канцелярию». Воеводская канцелярия сразу же, «немедленно» послала своих полицейских, или, по-тогдашнему, «детей боярских», чтобы те освидетельствовали тело усопшей, и по этому осмотру оказалось, что «причет» не ошибся: «на теле умершей были найдены боевые знаки, которые и были признаны смертельными».
Воеводская канцелярия тотчас же начала следствие, но «по силе указа митрополита Арсения, от 22 июля 1742 года», не сочла себя вправе отобрать формальное показание от «причета». Надо было испросить на это разрешение у «закащика» (благочинного), а «закащик был в отлучке по своему заказу и скорого возвращения оного нечаятельно». Томская воеводская канцелярия, 28 ноября 1751 года, донесла о своем затруднении в губернскую канцелярию, а та, 8 апреля 1752 года (через пять месяцев после убийства), «заглушала» это донесение, а 19 августа (через девять месяцев) сообщила тобольской духовной консистории, которая «светским командиром» людей своей команды спрашивать не дала, а ровно через год после убийства, в ноябре 1752 года, послала в Томск указ своему «закащику», и этим указом