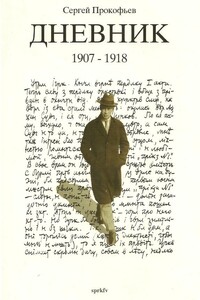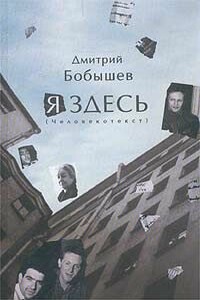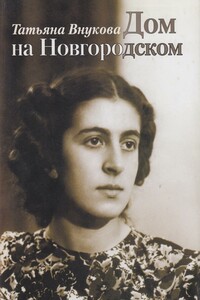Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность | страница 49
Замечательно, что тот же самый И. Шувалов, который оказал Ломоносову сильную поддержку в его просьбе перед императрицей, убеждал его не оставлять занятий науками ради фабрики и вообще советовал ему быть в поступках своих осторожным.
Мы не станем распространяться здесь о дальнейшей судьбе его стеклянных фабрик. Скажем только, что Ломоносову в конце концов удалось получить от правительства крупный заказ. Ему поручено было украсить восемью мозаичными картинами многосложный и роскошный памятник Петру Великому; монумент предполагалось поставить в Петропавловском соборе.
Одну из картин, изображавшую Полтавский бой, нашему академику удалось вполне окончить и, вероятно, сдать. “Но куда и когда она была сдана, кто был судьею выполнения и каков был отзыв, неизвестно”, – замечает Билярский. Под влиянием указанного крупного заказа, – с 1761 года Ломоносов стал получать за эти работы по 13460 рублей в год, – фабрика его оставила стеклянное производство и занялась исключительно мозаичным делом. Вторая картина, представлявшая взятие Азова, вследствие смерти нашего ученого осталась неоконченной. Куда она девалась, остается также неизвестным.
1753 год памятен в жизни Ломоносова еще и тем, что в этом году он написал наиболее замечательную из своих работ: “Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих”.
Лишь только в 1752 году пришли в Петербург известия об открытии Франклином воздушного электричества, академик Рихман и Ломоносов стали заниматься этим вопросом. Рихман произвел целый ряд новых опытов, которыми наряду с личными наблюдениями Ломоносов воспользовался для создания новой теории, объясняющей воздушные электрические явления.
Оба ученых намеревались познакомить общество со своими трудами на публичном акте 1753 года. Но Рихмана 26 июля 1753 года убило громом. Счастливая случайность спасла Ломоносова от такой же печальной участи. В письме о смерти товарища к И. Шувалову наш академик пишет: “Что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще, или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время”. Дальнейшее содержание письма подтверждает эти слова. Замечательно, что пораженный несчастным случаем Ломоносов больше всего боится, чтобы смерть Рихмана не была истолкована в русском обществе как убедительное свидетельство вреда от наук для России. Ломоносов с увлечением говорит, что Рихман умер прекрасной смертью, исполняя свой долг и стоя на посту, который указала ему наука; затем наш ученый положительно умоляет Шувалова обеспечить несчастную вдову, чтобы она могла сына своего, маленького Рихмана, воспитать и обучить, “чтобы и он такой же был любитель наук, как его отец”.