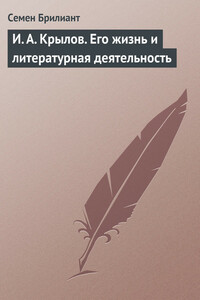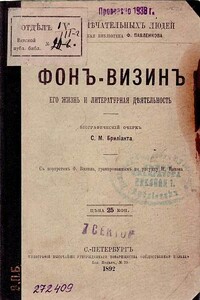Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба | страница 28
Не в столь обидной форме, но все же шутовскую роль при Екатерине играл Лев Нарышкин. В нем ценила Екатерина ум и комический талант, но то и другое обращалось нарочно в одно посмешище. Она называла его то «прирожденным арлекином», то «слабой головой», но неизменно сохраняла к нему благосклонность.
Известно, что знаменитый вопрос 14-й Фонвизина: «отчего шпыни и шуты, и балагуры в прежнее время чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие» – метил в Нарышкина с ему подобными. Тем же вопросом, по-видимому, вызвана была басня Державина «Лев и Волк». Волк жалуется, что он не получил ленты, тогда как «Пифик с лентою и с лентою осел» и т. д. Лев дал ответ: «Ведь ты не токмо не служил, но даже никогда умно и не шутил».
Автор «Фелицы» рассказывает, что, написав ее, показал друзьям своим Львову, Капнисту и Хемницеру, а затем спрятал, «опасаясь, чтобы некоторые вельможи не приняли чего на свой счет и не сделались его врагами». Случайно увидел ее однажды Козодавлев, выпросил домой, обещая никому, кроме тетки, поклонницы Державина, не показывать, и, как всегда в этих случаях бывает, рукопись стала ходить по рукам. Прочли ее Шувалов и другие. Она появилась вскоре напечатанной в первой же книжке «Собеседника», без подписи и под заглавием: «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице („богиня блаженства“, по объяснению поэта), писанная некоторым мурзой, издавна поселившимся в Москве и живущим по делам своим в С.-Петербурге. Переведена с арабского языка 1782 г.». Так думал оградить себя поэт от мести оскорбленных, если бы они случились. К словам «с арабского языка» сделано было редакцией примечание: «хотя имя сочинителя нам не известно, но известно нам то, что сия ода точно сочинена на российском языке».
Княгиня Дашкова поднесла книгу императрице. Последняя прислала за Дашковой на другое утро, и княгиня застала ее в слезах. По словам Державина, Екатерина спросила Дашкову, кто писал эту оду: «Не опасайтесь, – прибавила она, – я спрашиваю только, кто бы так коротко мог знать меня и умел так приятно описать, что я, видишь, как дура, плачу». Несколько дней спустя за обедом у князя Вяземского Державину подали пакет с надписью: «Из Оренбурга от киргиз-кайсацкой царевны Державину». В пакете оказалась табакерка золотая, осыпанная бриллиантами, и в ней 500 червонцев. «За что бы это?», – спросил князь с неудовольствием. «Не знаю, – отвечал Державин, – разве не за сочиненье ли, которое княгиня напечатала в „Собеседнике“ без моего согласия?» С этого времени, говорит он, между ними начались неудовольствия. В восторге от милости Екатерины Державин рассыпался письменно в благодарности княгине Дашковой, Безбородко, через которого шла награда, и Козодавлеву. Последнему он пишет, между прочим: «Я для Фелицы сделался Рафаэлем. Рафаэль, чтоб лучше изобразить Божество, представил небесное сияние между черных туч. Я добродетели царевны противоположил моим глупостям. Не зная, как обществу покажется такого рода сочинение, какого на русском языке еще не было» и т. д.