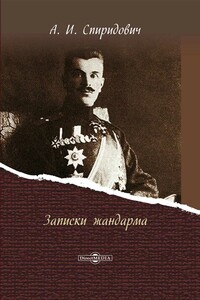Виссарион Белинский. Его жизнь и литературная деятельность | страница 36
Не потому Белинский эмансипировался от «философских фантасмагорий» кружка, что физически разлучился с ним, а потому, и только потому, что к этому привел его процесс его развития. С полной уверенностью утверждаем мы, что если бы Белинский остался в Москве и в состав кружка вошли бы еще несколько новых Станкевичей и Боткиных – результат был бы тот же самый, Белинский пережил эту фазу развития, перерос кружковую философию – вот вся история его умственного переворота, происшедшего единственно и исключительно в силу внутренних мотивов и процессов. Белинский принадлежал к числу тех натур, которые развиваются пусть болезненно и трудно, но непрерывно, развиваются (вспомним, например, Салтыкова) даже тогда, когда начинается упадок физических сил. Вспомним еще раз слова Белинского, что ему, ради философии, приходилось «жертвовать самыми задушевными субъективными чувствами своими». Для людей отвлеченной и пассивной благожелательности, каким был Станкевич, или для людей индифферентных, как Боткин, такой разлад с самим собою, такой диссонанс между мыслью и непосредственным чувством был нечувствителен. Великое преимущество Белинского над всеми его друзьями состояло (помимо литературного таланта) именно в активности его совести, в том, что он жаждал не только истины, но и справедливости. Будучи человеком, он не мог быть только «головастиком». Состояние кризиса, в котором находился Белинский, прекрасно выражено им в одном из его писем. «Мне, – писал Белинский, – теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия, – потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что или мне надо стать тем, чем я должен быть, или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастие… Но я не могу и спиться. Мне остается одно: или сделаться действительным, или до тех пор, пока жизнь не погаснет в теле, петь вот эту песенку -
Вот как заговорил человек, который еще так недавно толковал о «мире», «гармонии» и «счастии», добытых им путем отвлеченной мысли. Столь упорно и долго подавляемые «задушевные субъективные чувства» взяли наконец верх над диалектическими построениями – ив этом состояла нравственная сторона овладевшего Белинским кризиса.
Идейное содержание нового направления Белинского определить еще легче. Строго говоря, формулу этого направления Белинский мог бы почерпнуть из той же гегелевской философии, которую он исповедовал и которую – как оно и было на самом деле – можно было истолковывать до того различно, что «гегельянцы» – последователи одного и того же учителя – разошлись в разные стороны и относились друг к другу с решительной враждебностью. «Что действительно, то разумно» – вот как резюмировались московские воззрения Белинского. «Что разумно, то действительно» – вот та формула, которая с достаточной полнотой могла бы выразить воззрения Белинского петербургского периода. «Что