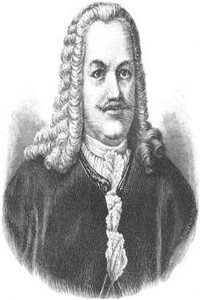В. А. Жуковский. Его жизнь и литературная деятельность | страница 18
«Ленора» Бюргера – одна из самых талантливых и страшных немецких баллад. Там есть сцены, написанные мастерской рукой и при чтении которых, в особенности под вечер, замирает верующее в «таинственное» сердце. Такова сцена знаменитой фантастической скачки, когда Ленора, обезумевшая от напрасного ожидания милого, забыв и мать, и все на свете, бросается на коня и, прижавшись к приехавшему жениху, мчится с призраком при безжизненном и бледном свете луны. Быстро несутся они, и наконец бег коня переходит в полет вихря… За ними мчится толпа фантастических призраков и страшных привидений… Попавшаяся на пути похоронная процессия со священником и певчими вовлекается в безумный полет коня… И среди этой бешеной езды, как в бреду горячки, раздается вопрос призрака невесте: «Страшно, милая? Ясно светит месяц! Лихо ездят мертвецы! Боишься мертвых?…»
Так же фантастичен и печален конец баллады, в которую вложен религиозный смысл, кратко выражаемый в возгласах призраков к Леноре: «Терпение, терпение – пусть даже разобьется твое сердце!»
Но все это у Жуковского вышло гораздо слабее, хотя «Людмила» и нравилась современникам. В русской жизни не было таких романтических преданий, как на западе Европы. Там были могучие феодалы, чьи гордые замки, как разбойничьи гнезда, виднелись в горах; там были рыцари, турниры и трубадуры; крестовые походы, могущественные императоры и папы, простиравшие свои руки на весь католический мир… Тамошняя кипучая история являлась богатой канвой для создания по ней всяких романтических узоров.
В «Вестнике Европы» за указанное время были помещены и другие вещи Жуковского: перевод «Кассандры» Шиллера и прочее.
Но Жуковский недолго редактировал журнал. Столкновения с сотрудниками и труды по редакции охладили его рвение, и уже через год в издании снова начал хозяйничать Каченовский. Хотя поэт и считался редактором до конца 1810 года, но в сущности это звание последнее время было только номинальным. В указанном году Жуковский возвратился в Мишенское. По соседству с Муратовым на оставленные ему Буниным деньги купил он небольшое имение и поселился там. Из этого своего «Тускулума» он ездил то в Муратово, то в Чернь, орловское имение своего богатого приятеля Плещеева, где и проживал более или менее продолжительное время. Помянутый Плещеев был большой любитель искусств: в своем крепостном театре он ставил пьесы собственного сочинения, переписывался стихами с Жуковским, перекладывал стихотворения последнего на музыку, а жена их распевала.