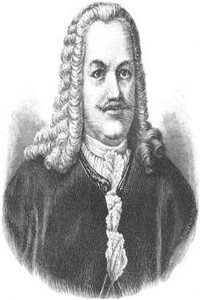В. А. Жуковский. Его жизнь и литературная деятельность | страница 16
И общество, и поэтическая обстановка, в которой жил поэт, и его связи вместе с той литературой, которая составляла его умственную пищу, – все это побуждало и самого Жуковского «творить». Он переводит и печатает «Дон Кихота», «Гимн», «Мальвину», «Идиллию», басни и стихи Флориана, Лафонтена и других. К этому же времени относится и его знакомство с Шиллером, к которому впоследствии он так привязался. В трагедии «Валленштейн» его пленял чудный образ Теклы. Раз после чтения с ученицами этой трагедии он набросал песню Теклы, назвав ее: «Тоска по милом». Вот конец этой песни:
Последние строки этого стихотворения и Жуковский, и его ученицы очень часто и устно, и письменно повторяли.
В 1807 году Жуковский особенно усердно сотрудничает в «Вестнике Европы», редактором которого он становится в следующем году.
«Вестник Европы», как известно, под редакцией Карамзина приобрел славу и сравнительно большое распространение. Но в 1803 году Карамзин оставил журнал, будучи назначен историографом государя. В это время он занялся главным трудом своей жизни – «Историей государства Российского», а издание «Вестника Европы» перешло сначала к Панкратию Сумарокову, при котором журнал утратил свою популярность, а затем к профессору Каченовскому. Карамзин и другие приятели Жуковского, видя в последнем крупного писателя и поэта, вызвали его для руководства изданием. Жуковский, мечтая о славе и больших деяниях и питая широкие литературные планы, воспользовался предложением друзей и в 1808 году переселился в Москву. С обычной серьезностью принялся он за дело и в нескольких статьях выразил свой взгляд на призвание и обязанности писателя: любить истинное и прекрасное, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать к идеалам других – вот благородное назначение писателя, по мнению Жуковского. Затем в письме к Филалету «о нравственной пользе поэзии» он говорит на ту же тему:
«Поэт должен усиливать воображение не со вредом рассудку… он должен живописать любовь, не делая привлекательным ни чувственности, ни сладострастия… Если он и описывает чувства и страсти, которые отвергает рассудок, если и украшает характеры недостойные цветами поэзии, то он не должен обращать эти моральные недостатки в совершенное моральное безобразие… Стихотворец никогда не должен перестать быть человеком, почитателем Бога, членом общества и сыном отечества…»