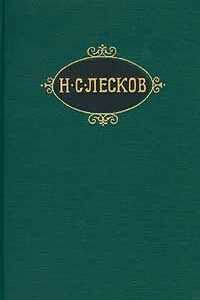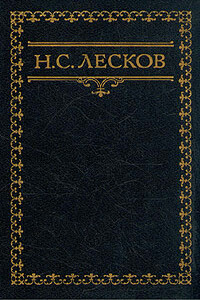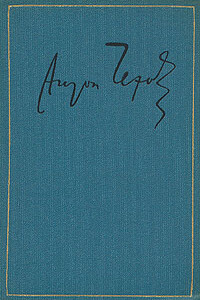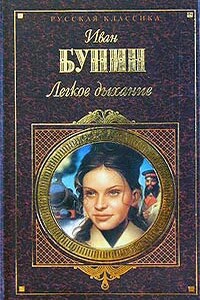Житие одной бабы | страница 68
Настя опять зарыдала, и нельзя было разобрать за рыданиями, что она еще говорила.
– Слушай! – произнес смотритель.
Настя рыдала.
– Слушай! – повторил он. – Слушай! тебе говорю, а то уйду, если будешь реветь.
– Нет, нет, я… перестану… не буду… Только пус… пус… пустите меня к ребенку! – говорила шепотом Настя, сдерживая душившие ее рыдания.
– Не реви, будь смирная, я тогда велю тебя пустить.
Настя махнула рукою, сжала свою грудь и тем же тихим, прерывающимся голосом отвечала:
– Да… я… бу…ду смир…смир…смир…ная. Вели…те меня пустить к моему ре…бенку.
Она сидела смирно и плакала, всхлипывая, как наказанное дитя. Даже глаза ее глядели как-то детски.
Смотритель посмотрел на Настю и вышел.
Как только ушел смотритель, Настя бросилась к окну, потом к двери, потом опять к окну. Она хотела что-то увидеть из окна, но из него ничего не было видно, кроме острожной стены, расстилающегося за нею белого снежного поля и ракиток большой дороги, по которой они недавно шли с Степаном, спеша в обетованное место, где, по слухам, люди живут без паспортов. С каждым шумом у двери Настя вскакивала и встречала входившего словами: «Вот я, вот! Это за мною? Это мое дитя там?» Но это все было не за нею.
Наконец часа через полтора пришел солдат и крикнул: «Бродяга Настасья!»
Настя вскочила с окна и бросилась к нему, говоря:
– Это я, я. Скорее, скорей, миленький.
– Погоди. Поспеешь с козами на торг! – отвечал солдат и не спеша повел Настю в часовню.
Часовенка, где ставили мертвых, была маленькая, деревянная. Выстроена она была на черном дворе и окрашена серою краской. Со двора острожного ее было совсем не видно. Убранство часовни состояло из довольно большого образа Знамения божией матери, голубого деревянного креста, покрытого белым ручником, да двух длинных скамеек, на которых ставили гробы. Теперь одна из этих скамеек была пуста, а на другой лежал Настин ребенок.
Настя, вскочив в часовню, бросилась к своему сокровищу, обняла дитя и впилась в него губами.
А ребенок был такой маленький и худенький. Еще в материной утробе он заморился, и там ему было плохо; там он делил с матерью ее горе и муки. Теперь он лежал твердый, замерзший. На нем уже была надета рубашечка, которую ему сшили и прислали Настины подруги, арестантки бродяжного отделения. А личико у него было синее, сдвинутое в горькую гримасу, с каким-то старческим выражением невыносимой муки. Точно он, взглянув на что-то ужасное, почувствовал ужасную боль, сморщился от этой боли и умер, унося с собою в могилу знак оттиснутой на нем земной муки.