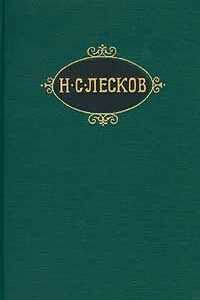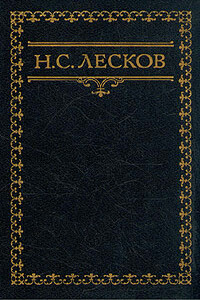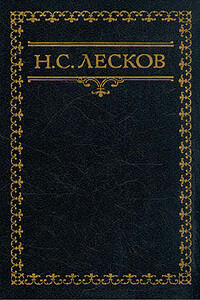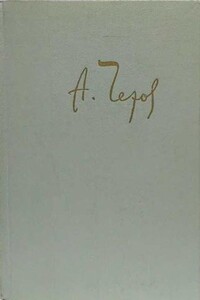Борьба за преобладание | страница 29
В одном из большого числа сохраняемых мною писем епископа Филарета Филаретова, помеченном 27 августа 1874 года, есть такая приписка: «Умер А. П. Муравьев. Так скоро и быстро смерть его свалила, что и сам он не успел распорядиться своим добром. До конца однако же остался верен самому себе. Я соборовал его перед смертию. Он был почти в агонии, но после соборования все-таки сказал: „благодарю, чинно совершено таинство“».
Как жил он, так и угас, до последней секунды надзирая за «чинностию совершения таинств».
Духовенство русское более чем равнодушно к памяти Муравьева и совсем не ценит его заслуг. Оно как будто понимает, что ханжеством всей своей жизни Муравьев не мог поправить того огромного зла, которое он причинил своим самолюбивым и опрометчивым поступком с посылкою митрополита Серафима к государю для испрошения синоду «гусара».
Нет нужды, что тайности эти далеко не всем известны и до сих пор, сколько помнится, не встречали печатной оценки – у массы есть свой инстинкт, которым она отличает добро от зла.
Некоторых до сих пор интересует любопытный вопрос: что если бы Андрей Николаевич Муравьев получил место обер-прокурора, – исполнил ли бы он свое намерение «упразднить» эту должность, или, по крайней мере, поставить иерархов выше себя и самому перед ними, как обещал: «смириться до приятия зрака раба».
Кто может решить то, что осталося тайным и неразрешенным в высших судьбах Провидения? Но насколько можно судить об исполнимости намерений по характеру и другим свойствам человека, их выражавшего, то я смею думать, что обещание Муравьева осталось бы неисполненным.
Глава двадцать четвертая
Андрея Николаевича Муравьева некоторые сравнивают с действующим ныне на литературном поприще князем Владимиром Петров. Мещерским. Сходство между ними действительно есть, но какое и в чем? Ведь критики духовных журналов находят сходство даже между Григорием Богословом и Шопенгауэром, или Василием Великим и Гумбольтом… Муравьев, во-первых, был несравненно сведущей Мещерского в церковных делах и знал как св. Писание, так и историю церкви, в чем никто не дерзнет обвинять князя Мещерского. Кроме того, Муравьев вполне понимал нравы низшего и высшего духовенства и любил задавать страху всем духовным, тогда как князь Мещерский строг только к «модному духовенству», с воротничками и чистым бельем на виду, а к «фиолетам» он сам искательно подъезжает на особом «духовном передке» (ips. verba[10]). Муравьеву же за то много и прощали, что он «гонял попов, да не давал спуску и архиереям». Здесь кстати расскажу, от какого случая он продолжал и унес в гроб неприязнь с митрополитом Арсением, который его пережил немного и хотел было лишить его успокоения под церковью, а зарыть в землю, как обыкновенного человека. Митрополит Арсений, объезжая епархию, однажды обедал у какого-то таращанского или звенигородского помещика, – кажется, если не ошибаюсь, у г. Млодецкого, поляка. За столом были духовные особы, сопровождавшие митрополита, и местный ксендз. Православный же местный причет и соседнее духовенство во все время обеда ожидали владыку на дворе, стоя у крыльца вместе с евреями, собравшимися поглазеть на экипажи и на гостя. Андрей Николаевич сделал за это выговор митрополиту без всякого послабления, а тот, чувствуя справедливость сделанного ему замечания, никогда не мог искренно помириться с Муравьевым и завел это до того, что даже мстил ему мертвому. Митрополит сделал неожиданное затруднение в погребении его в склеп под Андреевскою церковью, хотя склеп этот был устроен Муравьевым гораздо ранее его смерти и не без ведома митрополита Арсения.