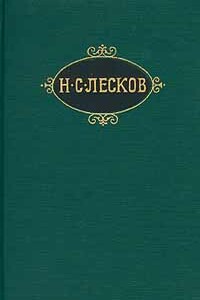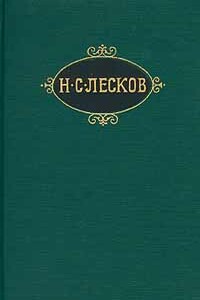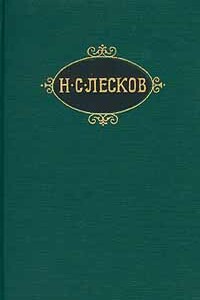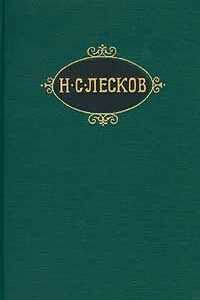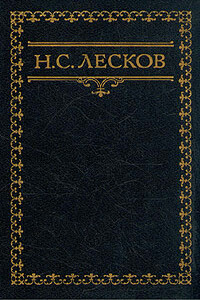Отборное зерно | страница 7
При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».
– Настоящей haut école![2]
– Ну, тем вам лучше, – говорю, – а мне в мои лета, – и прочее, и прочее, – словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.
Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области haut école или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.
Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:
– Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.
А кузен на меня посмотрел и говорит:
– Как, ты его знаешь?
Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.
– Не поздравляю с этим знакомством.
– А что такое?
Да ведь это отсветнейший лгунище и патентованный негодяй.
– Я, – говорю, – признаться, так и думал. Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братий.
Кузен мой расхохотался.
– Что же тут смешного?
– Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.
– А что?
– Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.
– Нет, – говорю, – я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.
– А это, – говорит, – ничего не значит.
– Однако же?
– Он соврет, наклевещет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь…
– Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.