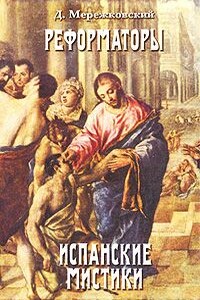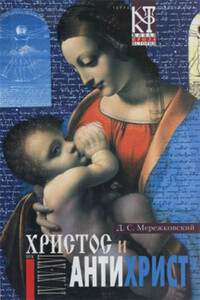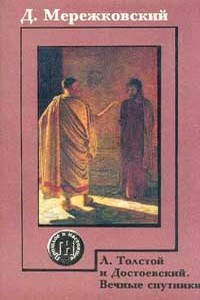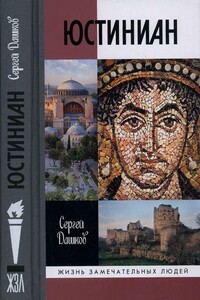Лютер | страница 14
«Люди нечестивые видят в Церкви только грехи и немощи; мудрые мира сего соблазняются ею, потому что она раздираема ересями; чистая Церковь, святая, непорочная – голубица Господня – грезится им. Такова она и есть в очах Господних; но в человеческих – подобна Христу, Жениху своему, презренному людьми, поруганному, избитому, оплеванному и распятому».[62] Это Лютер говорит о своей Церкви, но, кажется, бывали минуты, когда он готов был то же сказать, если не другим, то самому себе, и о Римской Церкви.
«Hoc est Corpus Meum. Сиe есть тело мое», – пишет он мелом на черном столе, отстаивая, как будто с редким и безнадежным упрямством, на Марбургском Соборе, против швейцарских учеников своих, Цвингли и Эколампадия, не Римский, а вселенский догмат Пресуществления в таинстве Евхаристии.[63] Видимое Тело Христово в таинстве есть и тело Церкви, тоже видимое. Что и чем спасает Лютер в эту минуту? С последним ли отчаянием – последний жалкий остаток, или с последней надеждой – первую догму будущей видимой Церкви, этого он, может быть, и сам не знает.
В бедной келье своей, откуда потрясал он весь мир, стоя на коленях перед открытыми окнами, чтобы лучше видеть небо, молится он просто и смиренно, как дитя, сначала церковными латинскими молитвами, а потом своими, на родном языке. Все, кто слышит эти молитвы, испытывают такое чувство удивления и благоговения, как будто только теперь вдруг понимают, что значит молиться. «Сколько раз заставал я его молящимся так за Церковь, с воплем, плачем, рыданием!» – вспоминает один из свидетелей.[64] За какую Церковь молится Лютер – за Невидимую, Торжествующую? Нет, за нее нельзя – можно только ей молиться; значит, за Видимую. «Я имел однажды счастье слышать, как он молится, – вспоминает тот же свидетель. – „Это дело – Твое, Отец… Мы начали его, потому что должны были начать… Сохрани и соверши!“[65] Можно молиться только о том, на что надеешься: значит, Лютер все еще надеется, что видимая церковь, как под мертвым камнем живой родник; если он умом уже не понимает, то все еще сердцем чувствует, что значит: «Вопреки надежде надеюсь (Contra spem spero)». «Сам Бог меня ведет, и я иду за Ним, Дело Его – мое», – мог бы он все еще сказать в такие минуты запредельного отчаяния, последней, вернейшей надежды.
«Действие Лютера до наших дней продолжается, и когда в дальнейшем оно прекратится, мы не можем предвидеть», – верно понял Гёте, потому что, вездесущий и всеобъемлющий, он все понимает – даже и то, чего не хочет, – как христианство.