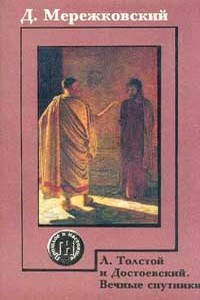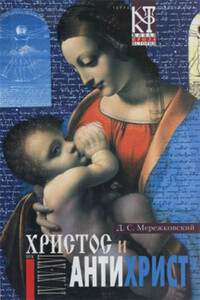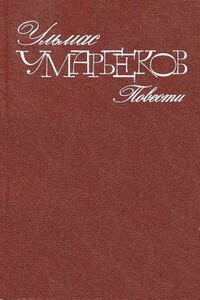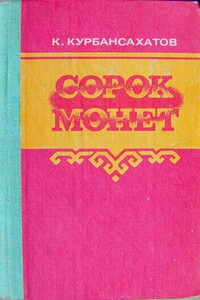Александр Первый | страница 86
В покоях – тяжелое великолепие павловских времен: расписные потолки, штофные обои, золоченая мебель, тусклые зеркала, в которых лица живых, как лица покойников. Но несколько комнат отделала Марья Антоновна в новом, веселеньком французском вкусе, особенно комнату больной во втором этаже, окнами на море. Обои, нарочно из Парижа выписанные, – серебристо-белый атлас с бледно-алыми гвоздичками; легкая дачная мебель лакированного светлого тополя; балкон, уставленный цветущими померанцами в оранжерейных кадках. «Настоящее гнездышко любви – nid d’amour – для моей бедненькой, бедненькой девочки», – говорила Марья Антоновна. Но на веселенькой мебели, как на тычке, больной ни присесть, ни прилечь. «Ох, болят мои старые косточки!» – горестно шутила Софья. Белый атлас напоминал ей ненавистное подвенечное платье, которое теперь она как будто вечно примеривала; алые гвоздички утомляли глаза, как мелькание бреда.
Софья переносила болезнь мужественно; только что становилось легче, вставала, бродила по комнате и уверяла, что уже почти совсем здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводил с ней целые дни, казалось, что она рада болезни и не хочет выздороветь. Лекарств не принимала, докторов не слушалась.
Однажды утром, вскоре после переезда на дачу, чувствуя или вообразив, что чувствует себя бодрее, перешла с постели на кресло, старое-престарое, с рваною кожею и торчавшею кое-где из дыр волосяной набивкою, – родное среди этой чужой мебели; из городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на нем и могла сидеть.
Утро было ясное, как все эти дни; небо лампадно-синее; тишина, какая бывает только раннею весною на пустынных дачах: щебет птиц, скрежет грабель, далекий-далекий топор, – должно быть, рыбак чинит лодку на взморье, – тишина от этих звуков еще беспредельнее. Открыта дверь на балкон; запах весеннего утра, березовых почек смешивался с душным запахом лекарств.
Стоя перед Софьей на коленях, Голицын кормил ее с ложечки предписанной врачами молочной овсянкой. Софья только из его рук соглашалась глотать ее, как лекарство, по ложечке. Старая няня, Василиса Прокофьевна, вдали у двери, пригорюнившись, глядела на «кормление зверя», как называла больная свой утренний завтрак.
Отдыхая между двумя ложками, Софья наклонилась к Голицыну и разглядывала лицо его с внимательною улыбкою.
– А ну-ка, погодите, сделайте лицо серьезное. Нет, еще, еще серьезнее… Да, ну же, ну! Больше не можете?