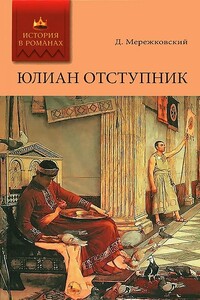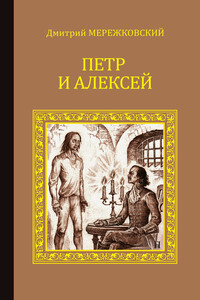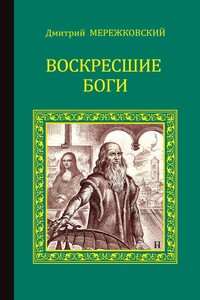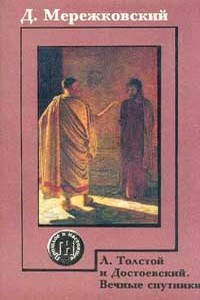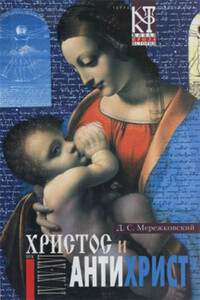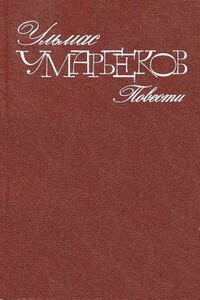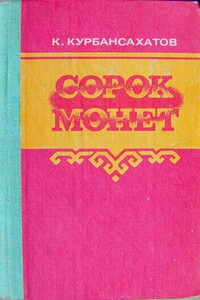Антихрист (Петр и Алексей) | страница 131
– Тяжко мне, батюшка, тяжко!.. Не знаю, что и делать… Сил больше нет… Я ведь отцу моему…
И не кончил, как будто сам испугался того, что хотел сказать.
– Пойдем в крестовую! Пойдем скорее! Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед Господом!..
В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней, стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями, окладах – наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда; в вечном сумраке теплились неугасимые лампады.
Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. О. Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся – лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах, – держал крест и говорил:
– Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое; не усрамися, ниже убойся и да не скроеши что от мене, но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приемлеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа.
И по мере того, как, называя грехи, один за другим, по чину исповеди, духовный отец спрашивал, и кающийся отвечал, – ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный снимал с души его бремя за бременем, кто-то легкий легкими перстами прикасался к язвам совести – и они исцелялись. Сладко ему было и страшно; сердце горело, как будто не о. Яков стоял перед ним, а сам Христос.
– Рцы ми, чадо, не убил ли еси человека волею или неволею?
Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич.
– Грешен, отче, – пролепетал он чуть слышно, – не делом, не словом, но помышлением. Я отцу моему…
И опять, как давеча, остановился, словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего.
С усилием, дрожа и бледнея, обливаясь холодным потом, он кончил:
– Когда батюшка был болен, я ему смерти желал. И весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть Того, Кто стоял перед ним, замер от ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное грому небесному – последнее осуждение или оправдание, как на Страшном суде.
И вдруг знакомый, обыкновенный, человеческий голос o. Якова произнес:
– Бог тебя простит, чадо. Мы и все ему желаем смерти.
Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел то же знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо – тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на круглой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду – ту самую, за которую некогда он таскал батьку, пьяный, во время драки. Поп как поп – ничего и никого не было за ним. Но если бы, в самом деле, разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами; «Бог тебя простит. Мы и все ему желаем смерти».