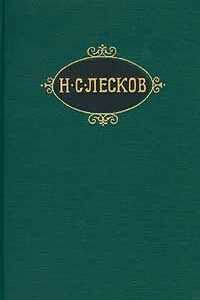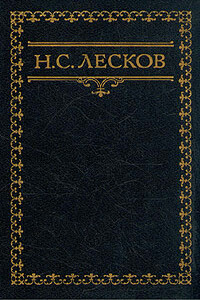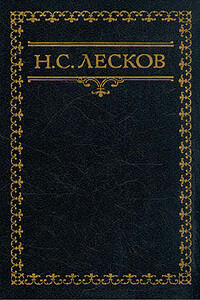Чающие движения воды | страница 82
Отец Савелий поставил точку, засыпал страницу песком и, тихо ступая ногами, обутыми в одни белевые носки, начал ходить по полу, стараясь ни малейшим звуком не потревожить сна протопопицы. Он приподнял шторку у окна и, поглядев за реку, увидел, что небо закрыто черными тучами и капают редкие капли дождя. Постояв у окна, он еще припомнил нечто и вместо того, чтобы лечь в постель, снова сел и начал выводить своим круглым почерком:
«Достойно слез и смеха, как все, всякий шаг и всякое воззрение подтверждает, что нечто странное совершается во всех умах и деяних. Сегодня, возвращаясь домой, встретил Константина Пизонского, который шел, поникнув головою, и по щекам его струились обильные слезы. Спросил у него причину слез этих, сказав, не новое ли еще что в печальной жизни Маслюхиных? Но он, на сие махнув рукою и пожав плечами, отвечал на вопрос мой, что его приемец, младенец, пропал. Ушел младенец и скрылся, дабы не примерять лишь новой одежды, сшитой для него Пизонским. „Для чего же он не хочет надеть сей одежды?“ – вопросил я. – „А для того“, – отвечал Пизонский, – что „Неверка смеется!..“ И сею причиною все объясняется для него; ради некоей Неверки дитя делает и собственное утруждение, и неприятность воспитателю. А кто сия Неверка? – canis, пес, в просторечии собака, и ничего более. Ведь воистину смешно, что придаешь сему значение; воистину малодушество, что всякое лыко в строку начинаешь плесть; а меж тем, оно само как-то плетется и становится тебе якобы неким иносказанием. От малого заключаешь к великому, от Малвошки, Данилки и Омнепотенского передаешься мыслями ко всем ближним и присным, а от своего городка ко всей земле русской. Ибо чем же сей уголок земли не образчик всей земли, какова она есть? Это лоскут, что краснорядец для образца франтихе отрезывает. Да, да, да; так размышляешь и трепещешь, чту и как это будет, когда и до нас дойдут царские льготы и вольности? Страшишься, да не будет ли чего по пословице: „Царь жалует, а псарь разжаловывает“. На сих днях буду видеть Туганова и с ним обо всем побеседую. Сей один истинный болярин, не ожидающий, чтобы что-нибудь совершилось само собою, как все прочие с руками сложенными, чающие движения воды; но и на сего глядя, ныне думаю: совершишь ли ты что тебя достойное? И слышу как бы голос, подсказывающий: