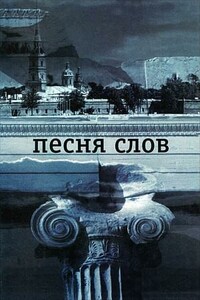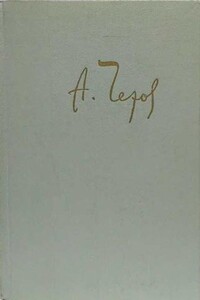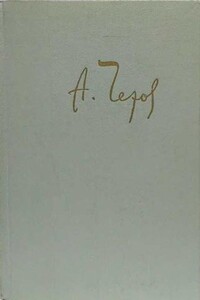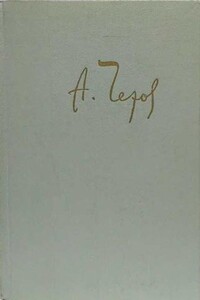Козлиная песнь | страница 81
Они сели на огромный диван; но тетушка не принесла им чая на подносе, ситного, нарезанного ломтиками; во втором часу ночи, приоткрыв дверь, не заглянул в комнату отец Константина Петровича, маленький старичок, и не посоветовал лечь спать, напоминая, что завтра Константину Петровичу надо будет преподавать английский язык старушкам, и Костя Ротиков и неизвестный поэт не улыбнулись радостно в ответ и не продолжали наслаждаться метафизическим поэтом.
Но, взволнованные неожиданной встречей, они разговорились. Снова луна им казалась не луной, а дирижаблем, а комната не комнатой, а гондолой, в которой они неслись над бесконечным пространством всемирной литературы и над всеми областями искусства. Уже Константин Петрович в забывчивости протянул руку к полке, чтобы достать поэму о сифилисе Фракастора, чтобы сравнить ее с поэмой о сифилисе Бартелеми, рекламной поэмой середины XIX века, в которой говорилось о Наполеоне, что, собственно, не он виноват, что теперь французы маленького роста, а усвоенный и переработанный нацией сифилис. Но его рука повисла в воздухе, потому что в окне появилась палка приехавшего в Россию ирландского поэта и плечо немецкого студента Миллера, а затем к стеклу прильнули физиономии – одна, снабженная поэтической английской бородой, другая – бритая, улыбающаяся, в поднятом воротнике, истинное личико. Затем, поднявшись на плечи друзей, в комнату заглянуло лицо.
Через несколько минут из-под ворот вышла на улицу процессия.
Впереди шло существо с прелестным лицом. Оно одето было в тулупчик, до бедер – замшевый, от бедер – меховой, на ножках существа сияли удивительно маленькие лаковые туфельки, а на головке шапочка.
За существом шел ирландский поэт в кожухе до земли.
За ним – Агафонов в осеннем пальто.
За ним – немецкий студент в летнем пальто.
Процессию замыкал Костя Ротиков в шубе на енотовом меху. На перекрестке, окружив существо в тулупчике, вышедшие стали совещаться о способах передвижения:
– Да ист ганц эйнфах[2], – заметил немец, – мы поедем на автомобиле.
Он быстро побежал на перекресток и стал торговаться. Они понеслись в бар.
– Я вас очень люблю, – сказал ирландский поэт. – Все здесь странно, я останусь, здесь можно жить поэту. Здесь – мировые вопросы. Здесь ходишь в чем тебе угодно – и никто не обращает внимания. А у нас в газетах: у вас все разрушено, голод, трава на улицах. За поэзию! – чокнулся он с Агафоновым.
– У вас Толстой, Горький, – подтвердил немец. Собственно, разговор уже велся не на одном языке, а на всех языках одновременно: вдруг вспыхивало греческое χαι: