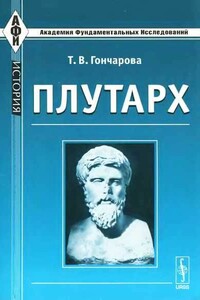Эпикур | страница 27
Самого Демокрита, видимо, нимало не беспокоило мнение о нем ни соотечественников, ни кичащихся своей образованностью афинян. Как и другим гениальным людям, ему было дано осознание собственной значимости, и он мог с полным правом писать о себе: «Я зашел дальше всех моих современников, я расширил мои исследования далее, чем всякий другой, я видел больше стран и земель и слушал больше ученых людей; в слагании мнений, сопровождаемых доказательствами, никто не превзошел меня, даже египетские землемеры; так же, как имел все основания Фукидид считать свой исторический труд достоянием вечности, а Платон — называть своих последователей «богоподобпым потомством достославного отца».
В то время, как до Демокрита, по словам Аристотеля, «никто не высказал ничего, кроме самого поверхностного, о процессе роста и изменения», Демокрит стремился выявить тот главный закон, согласно которому все эти изменения происходят, и те первоэлементы, из которых состоит все сущее. Считается, что он был учеником милетянина Левкиппа, покинувшего отечество после захвата Малой Азии персами и окончившего свои дни в Абдерах. Этот малоизвестный философ (некоторые из античных авторов вообще сомневались в его существовании), немногочисленные писания которого растворились, по-видимому, в обширном наследии его гениального ученика, первым высказал мнение о том, что в основе всего существующего лежат мельчайшие неделимые первотела — атомы и что «ничто не происходит беспричинно; все вызывается причиной или необходимостью». Развивая дальше эту мысль в своих сочинениях, поражавших и много веков спустя вдохновенным, образным языком и каким-то провидческим пафосом, Демокрит создал гигантскую модель мироздания — вечного и бесконечного Космоса, начало которого «суть атомы и пустота»: «Миры бесконечны и подвержены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществующего и не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все сложное». Он утверждал, что и душа материальна и состоит из круглых, более, чем прочие, подвижных атомов. Вследствие изменения формы, сочетания и положения атомов возникает все существующее в природе, развитие которой определяет не какая-то божественная сила (и тем более не привычные олимпийские боги), но присущие самой природе закономерности.
При всей мощи своей интуиции, позволявшей ему проникать в глубины Вселенной, Демокрит (так же как и Эмпедокл) становился как-то наивно беспомощным, когда приступал к объяснению жизни здесь, на Земле, которая представлялась ему огромным, полым изнутри диском. Вот как, в частности, он объяснял зарождение различных живых организмов: когда в результате вихреобразного кружения и соединения атомов небо отделилось от земли, «грязеподобное и иловидное вещество, соединенное с влагой, осталось пребывать на том же месте вследствие своей тяжести»; образовавшиеся на поверхности земли гниющие образования отвердевали от солнца, но внутри их продолжалось развитие жизни и, «наконец, когда эти образования, носящие плод в чреве, вполне созрели и их оболочки прожглись насквозь и разорвались, тогда из них возникли разнообразные формы животных». Таким же, по мнению абдерского философа, было и чисто земное происхождение «микрокосмоса» (как он называл человека), этого «малого мира», который живет и развивается по тем же законам, что и космос великий, хотя глубинные взаимосвязи между этими двумя мирами, причины их подобия, по-видимому, навсегда останутся непостижимыми. Так же как останутся, наверное, без ответа и главные из главных вопросы: что есть наш мир? зачем он? и что есть разум? — «ибо истина скрыта в глубине».