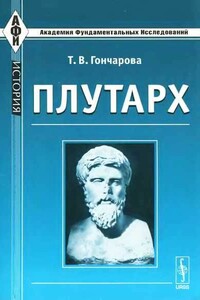Эпикур | страница 25
Этой единственной цели — сделать души людские достойными возвращения в высший мир идей — призваны служить и все общественные установления: семья, образование, государство. Их главная цель состоит в том, чтобы способствовать преодолению эгоизма, сребролюбия, жадности, своеволия, дерзости — всего того, что несовместимо с добродетельной жизнью и еще больше отдаляет души от вечного мира идей. Во имя этого, считал Платон, создавая в своих писаниях утопический и в целом довольно жутковатый образ идеального государства, следует (если уж не всем людям, то принадлежащим к более высоким слоям общества) отказаться от частной собственности и от семьи: все должно быть общее — земля, вещи, дети. И тогда не останется места для противоречий, раздирающих общество, и особенно афинское, нуждавшееся, по мнению основателя Академии, в немедленном оздоровлении любыми средствами. Основой такого идеального государства, управляемого философами, Платон считал земледелие и натуральное хозяйство, граждане его должны вести самый скромный образ жизни, довольствуясь лишь необходимым. Отношения между людьми должны строиться на справедливости (и справедливость эта состоит в том, чтобы каждый занимал самой природой предназначенное ему место), поскольку справедливое это и есть разумное. То самое разумное, которое дается смертным от рождения, совершенствуется в процессе занятий науками и философией и помогает человеку в осуществлении его высшего предназначения: быть посредником между земным несовершенным миром и вечным царством идей.
Такая конечная цель человеческой жизни, как ее понимал разуверившийся в своих современниках Платон, всегда была чужда Эпикуру, а тем более в его юные годы, полные радости познания мира и смелых, пусть, может быть, и наивных надежд. Ибо жестокий и сложный, раздираемый извечными противоречиями мир, в который он еще только вступал, был, несмотря ни на что, так прекрасен — многоцветный, пронизанный солнечным светом, овеваемый солеными морскими ветрами, что по сравнению с ним казался бесплодной абстракцией, горькой фантазией разочарованного в жизни человека бледный мир Платоновых идей. И уже в эти юные годы у сына Неокла возникает желание опровергнуть все эти мистические построения, помочь людям утвердиться в единственно существующем мире земной реальности, помочь уцелеть и в то же время остаться людьми среди всех жестокостей и несообразностей жизни.
Тем более что события в Греции разворачивались так, что столь презираемый Платоном «мир разрозненных явлений» оказывался явно сильнее совершенного мира абстракций, и, осознав это, философы капитулировали вместе со всем остальным эллинством. Только немногие из них, такие, как Диоген из Синопы, окончательно презревшие суету бытия, сохраняли иллюзию свободы, другие же «философы приходили к царю и выражали свою радость». Ту радость, которую никогда и в ни каких случаях не выражал Эпикур (хотя впоследствии среди недоброжелателей находились и такие, что обвиняли и его в низкопоклонстве перед царедворцами). Кажется, он не испытывал ничего, кроме недоумения, если дело касалось царей и героев. И хотя от их подвигов, внушавших удивление и страх, слишком многое зависело в жизни людей, в том числе и в его собственной жизни, что значили эти великие деяния для Вселенной, где рождаются и рушатся миры в вечном круговороте материи? И поэтому Эпикур избегал занимать свои мысли столь низменными и к тому же от него совершенно не зависящими вещами. Ему было только жаль соседей, афинских клерухов, для которых возникла угроза лишиться своих наделов: по мере того как Александр стал все чаще заявлять о том, что надо бы восстановить былую самостоятельность островов, самосцы, ободренные такими речами, все более открыто выражали надежду вернуть свои земли, занятые переселенцами из Аттики.