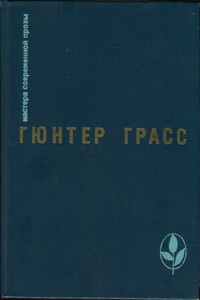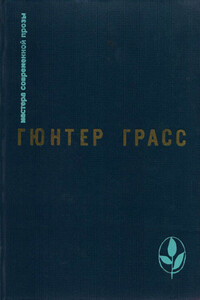Луковица памяти | страница 38
Дальше — пустота. Заботливо пестуемое одиночество. Вожделение иногда дремало, иногда вновь обострялось. Оно пережило все те месяцы, которые я отслужил во вспомогательных частях противовоздушной обороны; барачная тягомотина на зенитной батарее неподалеку от порта отражена в романе «Собачьи годы», хотя там рассказаны совсем иные истории на подростковом жаргоне других ребят, радовавшихся, как и я, что для них закончились не только обязаловка гитлерюгенда, успевшая набить оскомину, но и школа.
Правда, глупости любви играют в этом многоплановом романе кое-какую роль, однако следует заметить, что костлявая девчонка по имени Тулла Покрифке, наносившая по выходным визиты личному составу зенитной батареи Кайзерхафен, не имеет ничего общего с моей первой любовью.
Янтарь притворяется, будто помнит больше, чем нам хотелось бы. Он консервирует то, что давно переварено и должно быть испражнено. Янтарь содержит все, что некогда сумел поглотить, будучи в жидком состоянии. Он не приемлет отговорок. Янтарь ничего не забывает и разглашает сокровенные тайны громче, чем базарная торговка расхваливает свежие овощи; он категорически утверждает, что двенадцатилетний мальчуган, носивший мое имя, тогда еще вполне набожный — точнее, верующий если не в Бога, то в Деву Марию, — нескромно заглядывался на занятиях по катехизису на девочку с косичками. Священник церкви Сердца Христова готовил нас в приходском доме к первому причастию. Мы должны были выучить наизусть весь регистр грехов из «исповедного вопросника»: какие грехи простительны, какие тяжкие, а какие смертные. Вместе с братом той девочки я даже заменял порой министранта, носил колокольцы и кадило, устремив взор на дарохранительницу.
Да, я и сегодня помню подготовительную молитву у алтарных ступеней. Подобно Маллигану в начале «Улисса», я, бреясь по утрам, шепчу: «Introibo ad altare Dei…»
А в тринадцать лет — уже разочаровавшись во всевозможных католических трюках — я продолжал ходить к субботней вечерне, кажется только затем, чтобы подкараулить ту девочку, старался сесть поближе к исповедальне, на скамейку позади косичек.
Медово-желтый сгусток окаменевшей смолы выбалтывает даже тайну исповеди: мои уста доносили до слуха старого священника всяческие подробности относительно предмета моих рукоблудных фантазий, при этом у меня невольно сорвалось с языка имя той девочки, которая служила целью моих вожделений. Святой отец за решеткой исповедальни только закашлялся.