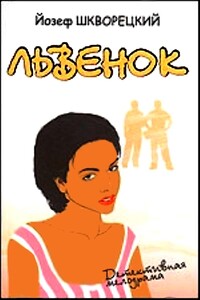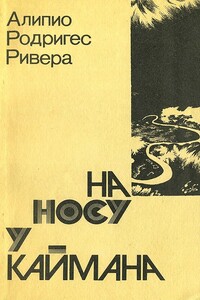Легенда Эмёке | страница 16
Потом я обернулся и посмотрел на учителя, торчавшего за столом с выражением оскорбленной справедливости на лице, дышавшем злобой.
В полпервого я ждал ее перед гостиницей, но она пришла со своей напарницей по комнате, тоже венгеркой, вместе с пятью словаками, уезжавшими тем же поездом. Было ясно, что вторую девушку попросила прийти она, чтобы та не оставляла ее со мною наедине, поэтому она и шла всю дорогу с нами, и я не мог Эмёке ничего сказать, только спросил ее, могу ли я ей написать. «Пожалуйста, – ответила она. – Почему бы нет?» – «А вы мне ответите?» – «Зачем?» – пожала она плечами. Приглушенно, чтобы не слышала та, другая, я сказал ей: «Потому что я люблю вас, Эмёке. Верьте мне». – «Я вам не верю», – ответила она. Та, вторая, немного отошла, однако могла слышать наш разговор, так что я продолжал по-прежнему тихо: «Поверьте мне, – повторял я. – Я приеду к вам в Кошице. Можно?» – «Почему бы нет? Пожалуйста». – «А вы будете со мной разговаривать? Могу я к вам прийти?» – «Приходите». – «А вы будете мне верить?» Она не ответила. «Будете мне верить, Эмёке?» Еще минуту она молчала. «Не знаю. Может быть», – ответила она потом; в это время мы уже были на станции, у пригородного вокзальчика, где стоял готовый к отправлению поезд, а возле него – дежурный в форме. Отдыхающие вошли в вагон, один из словаков помог Эмёке втащить чемодан, и ее темный силуэт показался потом в окне. «Эмёке», – крикнул я наверх, будто заклинал ее, будто хотел услышать от нее ответ на вечный и монотонный вопрос того времени, в котором живу, столь неопределенного во всех вариациях любовного ритуала, столь банального, без достоинства, без чести, без любви, и все же так стреноженного удобным навыком иллюзорной свободы, что я не мог ни на что решиться. «Эмёке!» – крикнул я наверх, во тьму, тому силуэту, той легенде, которая закончилась, и от нее донеслось до меня еле слышно, как из глубокой дали: «Да». – «Верьте мне, прошу вас, – произнес я тише. – Эмёке!» – «Да, – ответила она. – Прощайте…» Но это уже не звучало зовом одинокого звереныша в лесной чаще – то был голос разочарованной и скептической мудрости женщины, становящейся образом утраченного времени; дизель загудел, поезд тронулся, из окна помахала белая тонкая рука той девушки, того сна, того безумия, той правды, Эмёке.
За ночь улетучились из меня и вино, и мудрость, и познание – либо курортная околдованность, чем бы оно там ни было, – и я проснулся в трезвой и холодной действительности воскресного утра и отъезда в Прагу, в свою редакцию, к своим сослуживцам, к больному роману с Маргиткой и ко всему прочему. На соседней кровати храпел учитель; его белье, рубаха, брюки – все снова было тщательно развешано для проветривания. Я не сказал ничего. Он был противен мне со всей его гигиеной чисто выстиранного белья, ибо грязь его души не могла выветриться ни из этого белья, ни из брюк, ни из рубахи – не человек, а просто живая грязь, спесивый дурак, развратник. Враг.