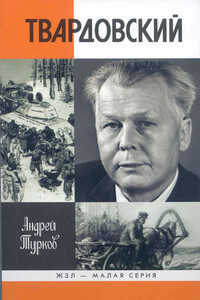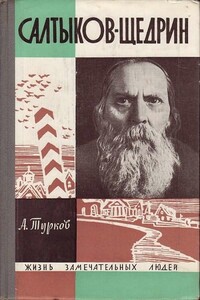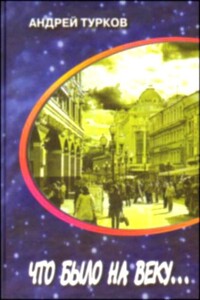Александр Блок | страница 20
В „Песне Судьбы“ Фаина поет свои „общедоступные куплеты“ „голосом важным, высоким и зовущим“ (IV, 127) и в своем монологе, обращенном к неведомому жениху, восклицает: „Когда пою я бесстыжую песню, разве я эту песню пою? О тебе, о тебе пою!“ (IV, 145).
При всей смутности и схематичности образа Фаины в пьесе и самого этого монолога он может прояснить нам истинный смысл фигуры героини стихотворения „В дюнах“. Это, конечно, отнюдь не только порождение тогдашних литературных мод, как полагают некоторые исследователи, не „гамсуновский диковатый дух лесов и полей“.
Анат. Горелов справедливо отмечал, что „любовная тема в поэзии А. Блока никогда не ограничивалась Эросом, в ней бушевала вся полнота жизненной страсти“.[15]
Думается, и здесь речь идет о том сложном, многократно возникающем у Блока туманном образе (при всей конкретности его реалистической „оболочки“ в стихотворении „В дюнах“!), который олицетворяет могучую стихию самой жизни:
(„Твоя гроза меня умчала…“)
Не менее дерзко врывается Фаина в жизнь Германа („Песня Судьбы“). Ушедший из своего уединенного „белого дома“ (кстати, до деталей похожего на шахматовский дом самого Блока), навстречу „синему, неизвестному, волнующему миру“, Герман сначала видит в Фаине только цыганку, которая „душу — черным шлейфом замела“.
гневно восклицает он.
Оскорбленная Фаина хлещет Германа бичом по лицу. На героя обрушивается удар судьбы, молния страсти, освещающая перед ним всю глубину мятущейся, жаждущей души Фаины и сквозящей за ней народной души: „Не лицо, а все сердце облилось кровью, — говорит Герман. — Сердце проснулось и словно забилось сильнее…“ (IV, 146).
Он „в страшной тревоге, как перед подвигом!..“ (IV, 148), ему мерещатся впереди битвы, вроде Куликовской. Он кажется Фаине долгожданным ее женихом.
Но — ненадолго. Снова сникает Герман, снова клонит его в сон, каким спал он в „белом доме“. „Пусть другой отыщет дорогу“, — бормочет он в бреду (IV, 163).