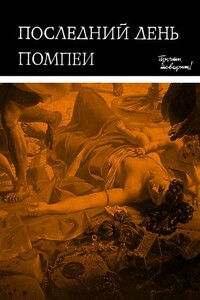Повесть о художнике Айвазовском | страница 53
О нем слагались легенды. Быль легко уживалась с самой фантастической выдумкой. И чем были невероятней рассказы, тем больше верили им, потому что слухи, доходившие из Италии о художнике, превосходили самое пылкое воображение.
Все это оживило академическую жизнь и на время разбудило самых сонных, вызвало к деятельности беспробудных лентяев.
Среди академистов началось соперничество. Каждый теперь грезил о славе. В кружке Гайвазовского и Штернберга страсти кипели особенно сильно. От восторженных разговоров о Брюллове переходили к другим художникам, к долгим, горячим беседам и спорам о тайнах художественного мастерства.
Часто друзья собирались в мастерской профессора Воробьева. Для Максима Никифоровича эти молодые люди были не только учениками, но и друзьями его старшего сына, Сократа, учившегося вместе с ними в академии.
Беседы юношей с добрым и просвещенным профессором оставляли неизгладимый след в их душах и объясняли им многое в искусстве.
Хотя академическое начальство не одобряло общения профессоров с академистами во внеклассные часы, Максим Никифорович не всегда с этим считался и брал иногда с собою на прогулки своих юных учеников. Беседуя с ними, он учил их понимать природу, любить ее.
Все знали о горячей любви профессора к Петербургу, к панораме Невы и набережных. И он усердно прививал эту любовь своим ученикам.
Ученики видели, как учитель на своих картинах наполнял воздухом и светом невские просторы, перспективы набережных, городские площади. И всюду на картинах присутствовала живая натура: прачки, рыбаки, корабли, лодки, плоты, дома. От картин веяло человеческим теплом, сама невская вода казалась обжитой.
Воробьев говорил своим ученикам:
— Прозрачность красок, насыщенность их светом и теплотою, свежесть и постепенность в тенях служат для более полного изображения города, созданного гением природы — человеком.
Гайвазовский часто задумывался над наставлениями своего профессора. Воробьев учил пристально наблюдать натуру, угадывать ее «душу» и «язык», передавать настроение в пейзаже. Все это было ново тогда и отличалось от всего того, чему учили молодых художников в академии. Там почти все профессора предлагали, чтобы натурщикам — рослым русским юношам, у которых часто носы были так мило вздернуты, — академисты придавали греческие и римские профили, торжественные позы, то есть чтобы вместо живых людей изображались какие-то окаменелые в своей неизменной красоте античные статуи.